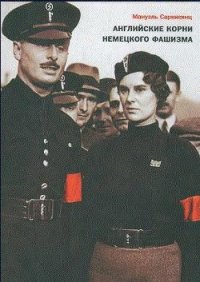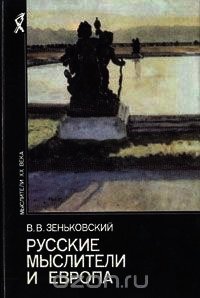Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева - Саркисянц Мануэль (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью txt) 📗
Шелтинг утверждал, что (по словам Чаадаева) древняя Русь не обладала «никаким определенным жизненным ритмом, никакой привычкой к чему-либо, никакими глубокими бороздами, благодаря которым могла бы сложиться колея цивилизованной жизни». По мнению Чаадаева, все беспорядочное, неустойчивое, случайное, бессвязное, неопределенное и текучее должно быть преодолено {732}. Бердяев подчеркивал, однако, что культура пребывает в середине исторического процесса (если иметь в виду линейное его понимание), но не в конце его, к которому всегда была устремлена русская религиозно-философская мысль [65] {733}.
Эту апокалиптическую черту Бердяев считал самой характерной для русского христианства {734}. Западу же, констатировал он, напротив, было присуще стремление создавать культурные ценности и активность во времени, ибо, с точки зрения католицизма с его сосредоточенностью на делах земных, Апокалипсис уже завершился. Еще Гоголь [66] чувствовал «чисто христианское сознание незараженное культурой»: «…Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде… Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке?.. Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных представлений?… И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только ввиду всех исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!» {735}
После «Мертвых душ» Гоголь почувствовал, как одолевает зло пошлости русского человека, которого собственная ничтожность испугала более, чем все его пороки. Обывательщина задавила своей приземленностью высшее назначение человека; описанная Гоголем реальность оказывалась «сплошной пошлостью». Розанов также с отвращением относился к обывателям, ему был «поистине гадок буржуа XIX века, самодовольный… вонючий завистник всех… величий и… единственно стремящийся… к уравнительному состоянию всех… в… одинаковой грязи и одном безнадежном болоте… Ни святых, ни героев, ни демонов и богов» {736}. Понятие пошлости приближается к понятию мещанства, раскрытому Герценом {737}. («К соблазну жадная идет толпа / О цели выспренной там мысль смешна» [67], — грустил Некрасов.) Обе эти онтологические категории — пошлость и мещанство — вызывали отвращение уже у Гоголя и Герцена, отвращение с эстетической точки зрения. Такое же отвращение вызывал «старый мир» у Блока. Это чувство отвращения довело его до эсхатологического кризиса, который имел немало общего с кризисом, сломившим Гоголя. Именно этим было обусловлено восторженное отношение к революции Александра Блока. Вот что говорил об этом современник Блока В. В. Розанов: «…Средний европеец и „буржуа“ именно в XIX веке, во весь послереволюционный фазис европейской истории, выродился во что-то противное… Вся „цивилизация XIX века“ есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака» {738}. Бакунин предсказывал (это предсказание нашло лирическое выражение в творчестве Блока), что языками своего пламени Россия озарит всю Европу; из этого огненного, кровавого моря родятся чудеса революции. Россия, как считал Бакунин, является целью Революции. Именно в России разовьется главная сила революции, именно там найдет она и свое исполнение, — писал он {739}. А. И. Герцен, друг Бакунина, однажды выразил сходное умонастроение. Будь что будет, — так он чувствовал, — достаточно и того, что в этом огне ярости, мести, ненависти, погибнет тот мир, который стесняет нового человека, которыйне дает будущему свершиться. А потому да здравствуют хаос и разрушение! Vive la mort! И пусть утвердится будущее! {740}.
Наконец, у Достоевского, наиболее выдающегося противника такого образа мыслей, можно обнаружить следующую характеристику русского нигилизма: нигилизм появился в России потому, что в этой стране все нигилисты. Русских испугала лишь новая форма, — писал Достоевский. Ему казалась забавной забота русских «умников», стремившихся исследовать, откуда нигилисты могли взяться. Они ниоткуда не взялись, но все время были с нами, в нас и у нас, — утверждал Достоевский {741}.
В. В. Розанов выводил нигилизм из той отгороженности от мира, которая была характерна для русского православия, отказавшегося освятить цивилизацию [68] {742}. Бердяев писал, что нигилизм вырос на духовной почве православия, что только в душе, отлитой в православные формы, могло прижиться такое мировоззрение. Он называл нигилизм вывернутым наизнанку православным аскетизмом.
Нигилизм, равно как и тот эсхатологический порыв, которому он был обязан своим рождением, требовал того, чтобы жизнь была аскетически обнажена: с нее надлежало сорвать все покровы в преддверии финала — всеобщего разрушения порядка неправедного. Не могло быть и речи о том, чтобы удовлетвориться окружающим миром, основанным на неправде. С этой точки зрения знаменитый программный роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», рисующий идеальный образ жизни «новых людей», представлял собой как бы путеводитель, призванный сыграть ту роль, которую в московской Руси некогда играл полуаскетический Домострой {743}. Так видели идеологические корни русского нигилизма Г. Флоровский и В. В. Зеньковский {744}.
Примечательно, что либерал-рационалист П. Н. Милюков высказывал аналогичную точку зрения {745}. Характерно и то, что из трех крупнейших представителей русского нигилизма двое (Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов) происходили из духовного сословия. Что же касается третьего — Писарева, то известно огромное влияние, которое на него в юности оказала книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (столь презираемая революционной интеллигенцией), с ее проповедью «мирского» аскетизма. Не случайно Писарев перевел на русский язык «Мессиаду» Клопштока, проникнутую духом пиетистской религиозности.
Карл Нетцель когда-то охарактеризовал ранний большевизм как «нигилизм у власти». Вероятно, наиболее отчетливое определение нигилизма можно обнаружить у Леонида Андреева — в его знаменитой трагедии «Савва», написанной под впечатлением революции 1905 года. Вот что говорит один из ее персонажей, которого крестьяне принимают за Антихриста:
«Поверь мне, монах, я исходил много городов и земель и нигде не видал свободного человека. Я видел только рабов. Я видел клетки, в которых они живут, постели, на которых они родятся и умирают… Среди цветов прекрасной земли — ты не знаешь, монах, как она прекрасна, — они воздвигли сумасшедший дом… Они не убивают Правду, они… ежедневно секут ее, они обмазывают своими нечистотами ее чистое лицо… На всей земле, монах, нет места для Правды.