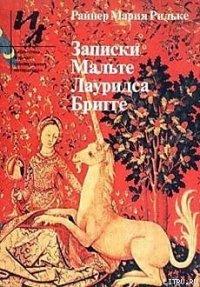Искушение чудом («Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы) - Мыльников Александр Сергеевич (чтение книг TXT) 📗
Анализ рукописи показал, что она представляет собой сокращенный список брошюры одноименного названия, но без подзаголовка («В кратком рассуждении исследовал J.»). Эта небольшая брошюра, всего 15 страниц, появилась по горячим следам событий — в 1762 г. В описании экземпляра из коллекции «Россика» (ГПБ) местом издания указан Франкфурт; в материалах Шлезвигского архива имя автора раскрыто как Justi.
Заслуживает быть упомянутым еще один трактат — «Русские исторические рассказы о правлении и смерти Петра III», переиздававшийся в 1764–1765 гг. и позднее в Западной Европе на французском и немецком языках. Его автором, выступавшим также под псевдонимом Марше, был К. Шван. Экземпляр, которым мы пользовались, вышел в свет в 1764 г. по-немецки с мистифицированным указанием на Петербург как на место издания [197].
Трактат построен в форме писем, которые, по уверению автора, он получал от знакомого немца, жившего несколько лет в Петербурге и занимавшего высокий военный пост. В письме от 24 июля 1762 г. сообщается о смерти и погребении императора, осуждаются действия Екатерины II, а события сравниваются с историей царевича Дмитрия и Лжедмитрия I. Автор ссылался на Ж. Маржерета, в записках своих (1607) полагавшего, что в Угличе вместо царевича был убит кто-то другой. Вспоминая о версии французского авантюриста, служившего и у Лжедмитрия I, и у Лжедмитрия II, К. Шван, рассуждая об обстоятельствах смерти Петра III, вплотную подошел к идее возможного самозванчества, что, как мы знаем, вскоре и случилось на самом деле.
Начав в последние годы жизни (примерно с 1802–1803 гг.) работать над исторической драмой «Димитрий», великий немецкий поэт Ф. Шиллер в числе других источников использовал и записки Маржерета. Изучение этих материалов побудило, по-видимому, Ф. Шиллера к уяснению для самого себя связи событий конца XVI — начала XVII вв. (царевич Дмитрий в Угличе и Лжедмитрий) с династическими перипетиями XVIII в. На рукописи его незавершенной драмы, хранящейся в Веймаре, нам удалось в 1979 г. обнаружить собственноручно составленное Ф. Шиллером родословие русских царей от Михаила Федоровича до Александра I. В нем отмечены без указания дат жизни имена двух соперников-претендентов на российский престол: Ивана Антоновича и Петра III, который, как отметил Ф. Шиллер, был женат на Екатерине II. Связь этих генеалогических заметок с замыслом драмы о царевиче Дмитрии заслуживает особого рассмотрения. В данном случае, однако, они важны как свидетельство интереса в немецкой среде к династической истории XVIII в.
Об этом свидетельствует и выявленный нами в архиве Шлезвига автограф, ранее хранившийся в герцогской библиотеке в Киле. Документу котором пойдет речь, включен в подборку рукописных материалов, названную в описи «К истории 1762 г. Датские требования к Гамбургу. 1762. Убийство царя Петра III, 1762–1764» [28, № 316, л. 73].
Автограф представляет собой латинское двустишие — пророчество:
Вслед за текстом указана дата: 1768 г. Архивная единица хранения, в состав которой автограф входит, датирована 1762–1764 гг. На самом автографе сверху почерком XVIII в. по-немецки написана аннотация: «Двустишие, что император Петр III в 1768 г. возвратится и будет царствовать». Но убедительна ли такая трактовка указанного в пророчестве года?
По смыслу архивного описания пророчество возникло между 1762–1764 гг. В принципе, конечно, такое возможно: ведь переговоры по шлезвигской проблеме с Данией, начавшиеся в 1766 г., имели давнюю и хорошо известную в Киле предысторию. А слухи о намерениях Екатерины II полностью отказаться от прав России на Шлезвиг и Гольштейн могли просачиваться в местную среду или даже сознательно в ней муссироваться — по понятным причинам то или иное решение вопроса о будущем статусе герцогства имело для населения Гольштейна первостепенное значение. В таком случае пророчество могло бы рассматриваться как одно из своеобразных преломлений подобных слухов. И все же не слишком ли много «бы»?

Кильское пророчество о скором возвращении в Гольштейн Петра III. Автограф. Из собрания государственного архива земли Шлезвиг-Гольштейн.
Между тем ситуация значительно упрощается, если 1768 г. рассматривать не как срок исполнения пророчества, а как дату его составления. Это, кстати сказать, не только отвечает графическому оформлению автографа, но и согласуется с его смыслом. В самом деле, в Киле имелись не только противники, но и сторонники сохранения унии маленького немецкого герцогства с могучей Российской империей и потому не безразличные к итогам переговоров с Данией. И коль скоро Павел под давлением матери-регентши отказывается от своих прав, на смену ему должен явиться тот, кому эти права ранее принадлежали, т. е. Петр III. Иначе говоря, нильское пророчество возникло в 1768 г. и представляло собой ответ сторонника русской ориентации на копенгагенский договор.
К какой же социальной среде, скорее всего, принадлежал автор этого ответа? Поскольку пророчество было писано латынью, оно как будто бы возникло в образованных кругах. Но именно здесь были хорошо осведомлены о судьбах их герцога, что делает подобное предположение беспочвенным. В то же время он едва ли мог возникнуть и в непривилегированных слоях, хотя форма пророчества, в которой он написан, была тогда очень популярна в грамотной европейской народной среде. В целом он имеет какой-то промежуточный характер. Таково, скорее всего, и его происхождение — городская торгово-ремесленная среда, заинтересованная в сохранении экономических и других связей с Россией. На это указывает и именование избавителя не как герцога Карла Петера, но как Петра III, т. е. российского императора.
Здесь можно усмотреть прямое воздействие на автора той части немецкой публицистики, в которой Петру III. именно как императору давалась положительная оценка и осуждалось его свержение. С этой точки зрения ближайшим источником пророчества видится трактат Юсти, где Петр III неоднократно поименован «великим» и «лучшим». Если верить тексту автографа, в котором говорилось, что возвращение Петра III будет неожиданным «лишь для немногих», пророчество это имело какой-то круг сторонников. Их настроения и выразил автор документа.
В свете сказанного двустишие приобретает антиекатерининскую направленность, что, как мы знаем, типично для народной легенды о Петре III. А это в свою очередь вводит кильское пророчество в общее русло развития легенды, а главное — в контекст слухов о «чудесном спасении», которые привели к появлению первых четырех самозванцев в России (1764 и 1765 гг.) и Степана Малого в Черногории (в 1766 г.). Если вести о Н. Колченке, А. Асланбекове, Г. Кремневе и П. Чернышеве едва ли доходили до Киля, то слухи, что Петр III жив, за рубежом были известны (вспомним хотя бы хроникальную запись под 1762 г. чеха И. В. Пароубека). Была осведомлена европейская общественность и о Степане Малом. Характерно, что итальянский сонет о «беспокойной тени» Петра III, пришедшей в Черногорию, чтобы «найти здесь благочестивое успокоение», возник около 1767 г.
У нас нет достаточных оснований утверждать наличие прямого влияния толков о Степане Малом на кильское пророчество. Но по крайней мере два совпадения бросаются в глаза: во-первых, сакрализация героя легенды (в гольштейнском двустишии Петр III назван «божественным», о себе как «посланце бога» неоднократно говорил Степан Малый); во-вторых, вера в реальность героя легенды, В одном случае он ожидается (кильское двустишие), в другом — уже объявился (Степан Малый).
Если не прямое воздействие, которое, впрочем, полностью исключать нет оснований, то во всяком случае общность духовной атмосферы здесь налицо. Это и обусловило появление кильского пророчества, которое родилось на пересечении реальных политических факторов (подписание копенгагенского договора) и фольклорного осмысления темы «чудесного спасения» и ожидаемого возвращения героя, бытовавшей в славянской среде. Двустишие явилось аккумулятором подобных представлений, распространявшихся в этой среде, но переработанных с учетом местных гольштейнских интересов. Разумеется, кильское пророчество не означало реального появления в Киле самозванного «третьего императора» (случай для германской истории вообще редчайший). Но в контексте общего генезиса легенды оно, несомненно, вплотную подводило к этому. В силу сказанного кильский автограф с полным основанием должен занять место в истории немецко-русско-славянских народных контактов. Еще и потому, что, как показывают факты, народы разных, а тем более соседних и близлежащих стран в XVIII в. знали друг о друге несравненно больше, чем в последующий период и чем об этом в настоящее время осведомлена наука.