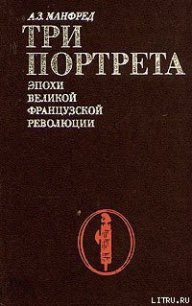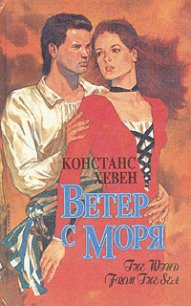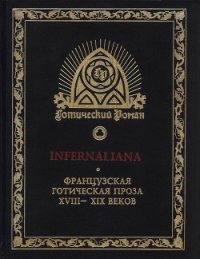Культурные истоки французской революции - Шартье Роже (электронная книга txt, fb2) 📗
Эта политизация на холостом ходу, связанная с осознанием того, что этические требования, которые руководят масонством, расходятся с особыми, не преследующими никакой моральной цели принципами, которые руководят поведением властей, пересекается с политизацией, опирающейся на культурную практику, которая избавилась от опеки государства еще в начале XVIII века. Благодаря образованию публики, суждения которой далеко не всегда совпадают с суждениями академических авторитетов и меценатов королевского происхождения, благодаря появлению рынка культурной продукции, который обеспечивает независимость (по крайней мере, частичную) ее производителям, благодаря распространению знаний, которое дает возможность расширить хождение печатного слова, у людей появилась привычка мыслить свободно и ко всему подходить критически. Новая политическая культура, рождающаяся после 1750 года, — прямая наследница этих перемен: с ней на смену диктату власти, принимавшей решения втайне и требовавшей беспрекословного подчинения, приходит публичное высказывание частных мнений и желание обсуждать без помех все существующие установления. Так создается публика, обладающая большей властью, чем сам государь, и заставляющая его считаться с ее мнением, которое становится общественным мнением {273}.
Создание этого нового общественного пространства, однако, не означает, что во всех слоях общества связь между обыденной жизнью и «государственными делами» осуществляется одинаково. Понятие политики при Старом порядке столь же неоднозначно, сколь и в XX веке. В самом деле, все определяют ее по-разному: одни включают ее в категорию рационального, наряду с критическим суждением и публичным спором, другие приписывают ей жесткие формальности, роднящие ее с судопроизводством, третьи говорят о ней старинным языком, полным предвестий и тонких намеков. Эти различные «способы производства мнений» {274}, которые было бы опрометчиво характеризовать в строго социологических терминах, прямолинейно противопоставляя политику образованных людей народной политике, связаны с различными способами образования того, что мыслится как политическое. Новое поле дискурса, которое появляется в середине XVIII века, очерчивая пространство для высказываний и действий всех своих противников, не исключает существование других «политических» культур, которые не обязательно мыслят себя таковыми и по-иному сочетают повседневные заботы с отношением к государственной власти.
Но, как показывают протесты крестьян и жалобы городских рабочих, эта «политика без политики» не неподвижна: на протяжении столетия меняются и формы, в которых она выражается, и ее главные цели. Общественное пространство Революции можно адекватно охарактеризовать как «новое политическое пространство, возникшее в традиционной культурной и интеллектуальной среде» {275}. Однако признание этого факта вовсе не означает, что перед Революцией разные формы политической жизни были разделены непроходимой границей. Даже при том, что публика — не народ, публика умеет выбрать глашатаев и с их помощью мобилизовать ресурсы судебного красноречия и риторики Просвещения, чтобы во всеуслышание заявить о требованиях народа. А общественная политическая сфера, «буржуазная» в своей основе, наоборот, одержима мыслью о безликом народе, внушающем беспокойство и страх, народе, который она отвергает, но к которому взывает. Новая политическая культура XVIII века является результатом этих разных способов политизации, которые, каждый на свой лад, расшатывают сами основы традиционного порядка.
Глава 8.
ЕСТЬ ЛИ У РЕВОЛЮЦИИ КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ?
«Не бывает настоящей революции без питающих ее идей — в противном случае это не революция, а мятеж или государственный переворот, поэтому интеллектуальные и идеологические основания для недовольства существующим режимом очень важны» {276}. Это утверждение Лоуренса Стоуна является отправной точкой последней главы нашей книги, и мы хотим использовать в ней возможности сравнительного метода. В самом деле, перед нами встает вопрос: если вслед за Лоуренсом Стоуном рассматривать всякую революцию (как английскую XVII в., так и французскую XVIII в.) не как чистую случайность, происшедшую по стечению обстоятельств, и не как абсолютную необходимость, время наступления которой, равно как и ее особенности, логически вытекают из самих ее причин, то; какое место среди предпосылок столь резкого перелома, делающих его мыслимым и желанным, занимают культурные факторы? Проводя параллель между двумя революциями в Европе времен Старого порядка, разделенными полутора столетиями, мы постараемся не столько отыскать схожие черты, которые позволили бы построить общую модель интерпретации, сколько, исходя из английского прецедента, поставить новые вопросы (или вернуться к старым) относительно ситуации во Франции.
Для начала вспомним пять факторов, которые Лоуренс Стоун считает решающими при рассмотрении интеллектуальных и культурных условий английской революции, — он говорит о них в главе «Новые идеи, новые ценности». По его мнению, доверие к старому политическому и религиозному порядку подорвали, во-первых, религиозные устремления (пуританство), во-вторых, юридические институты (common law, или обычное право), в-третьих, культурный идеал (противостоящая двору идея Country, «Страны»), в-четвертых, умонастроение (развитие скептицизма) и, в-пятых, неудовлетворенность образованных людей, связанная с «все более четким осознанием того, что численность выходцев из обеспеченных слоев, получивших высшее образование, растет гораздо быстрее, чем количество вакантных мест, которые они могли бы занять» {277}. Мы говорим сейчас не о том, помогает ли такое заключение понять истоки (о которых много спорят) английской революции, — мы хотим выяснить, имели ли место в предреволюционной Франции подобные или схожие явления.
Религиозное и политическое
Разница заметна с первого взгляда. В Англии в XVII веке расхождения с официальными властями возникают на религиозной почве. Отстаивая суверенное право отдельной личности мыслить самостоятельно и иметь собственное суждение, оправдывая противодействие официальным властям, которые нарушают божьи заповеди, внушая милленаристские убеждения и веру в наступление нового порядка, пуританство своей проповедью и своим учением не только дало революции организационную структуру и вождей, но еще и научило людей соотносить недовольство и надежды настоящего времени с буквой библейского текста. Все это приводит Лоуренса Стоуна к заключению: «Можно смело утверждать, что без идей, организации и руководства со стороны пуританства революция бы просто-напросто не состоялась» {278}.
Во Франции в XVIII веке, наоборот, происходит серьезный отход от христианских наставлений, предписаний и обычаев, который и подготавливает революцию. В пятой главе нашей книги мы попытались проследить хронологию, особенности и причины этого процесса дехристианизации, который, прикрываясь внешней верностью традиции и соблюдением обязательных обрядов, на самом деле отдалил от религии огромные группы населения Франции. Однако разве это различие полностью исключает возможность сходства ситуаций во Франции и в Англии?
Пожалуй, все-таки не исключает, причем по двум причинам. Первая заключается в том, что важное место в политических спорах занимает янсенизм; споры эти начались во Франции после издания буллы Unigenitus в 1713 году и еще больше ожесточились в середине века в связи с отказом янсенистам в причащении. Мы не будем перечислять общие черты, свойственные янсенизму и пуританству (хотя они бесспорно существуют, например, настойчивая апелляция к Библии или забота о спасении отдельной личности), наша задача не в этом, мы хотим лишь подчеркнуть политическую важность течения, которое включает в себя три важные составляющие: учение о благодати; науку об организации и жизни церкви, проникнутую галликанством и ришеризмом [21] и считающую залогом непогрешимости Церкви не решения ее иерархов, а полное единодушие всех верующих; парламентский конституционализм, признающий хранителем и блюстителем исконных законов королевства суд, а в короле видящий просто доверенное лицо, на которое возложено отправление верховной власти. Безусловно, после 1770 года, и особенно после «выпада» канцлера Мопу против парламентов [22], янсенизм утрачивает единство и цельность: «Первоначально янсенизм был сложным идеологическим сплавом, но постепенно он перестал быть единым целым и распался на отдельные части, которые могли свободно вступать в другие соединения» {279}. По этой причине в два предреволюционных десятилетия янсенисты отдалились от парламентов, сблизившихся с верхушкой католической Церкви, и перестали разделять их политические требования, более того, многие янсенисты заняли «патриотические» позиции и глубоко прониклись духом Просвещения. Так что было бы ошибкой сравнивать роль янсенизма с ролью пуританства: янсенизм был не в пример менее влиятельным течением. Однако так же, как и пуританство, янсенизм сурово критикует двойной деспотизм — Церкви и государства — с позиций религии, и эта критика приучила умы, во всяком случае в некоторых местах (в том числе и в Париже), противостоять официальным властям.