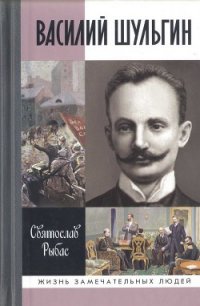Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев - Автор неизвестен (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
– То есть – точнее? Что вы предполагаете сделать?
– Я предлагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника…
Родзянко сказал:
– Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем… Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются…
– Я думаю, надо ехать, – сказал Гучков. – Если вы согласны и если вы меня уполномачиваете, я поеду… Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь…
Мы переглянулись. Произошла пауза, после которой я сказал:
– Я поеду с вами…
Мы обменялись еще всего несколькими словами. Я постарался уточнить: Комитет Государственной Думы признает единственным выходом в данном положении отречение государя императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и, в случае его согласия, поручает привезти текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем, в полной тайне.
Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с «Чхеидзе»… Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии.
Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были как никогда. Я знал, что в случае отречения… революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная Дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, – передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет.
Я не знал, удастся ли этот план при наличии Гиммеров, Нахамкесов и приказ № 1. Но, во всяком случае, он представлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно повинующиеся нам штыки, а таковых-то именно и не было…
В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой чужой Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там А. И. набросал несколько слов.
Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе.
2-е марта 1917 г. Во Пскове.
Чуть серело, когда мы подъехали к вокзалу. Очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашнего дня, еще спал. На вокзале было пусто.
Мы прошли к начальнику станции. Александр Иванович сказал ему:
– Я – Гучков… Нам совершенно необходимо по важнейшему государственному делу ехать во Псков… Прикажите подать нам поезд…
Начальник станции сказал: «слушаюсь», и через двадцать минут поезд был подан.
Это был паровоз и один вагон с салоном и со спальнями. В окна замелькал серый день. Мы, наконец, были одни, вырвавшись из этого ужасного человеческого круговорота, который держал нас в своем липком веществе в течение трех суток. И впервые значение того, что мы делаем, стало передо мной, если не во всей своей колоссальной огромности, которую в то время не мог охватить никакой человеческий ум, то, по крайней мере, в рамках доступности…
Тот роковой путь, который привел меня и таких, как я, к этому дню 2 марта, бежал в моих мыслях так же, как эта унылая лента железнодорожных пейзажей, там, за окнами вагона… День за днем наматывался этот клубок… В нем были этапы, как здесь – станции… Но были эти «станции» моего пути далеко не так безрадостны, как вот эти, мимо которых мы сейчас проносились…
Станции проносились мимо нас… Иногда мы останавливались… Помню, что А. И. Гучков иногда говорил краткие речи с площадки вагона… это потому, что иначе нельзя было… На перронах стояла толпа, которая все знала… То-есть она знала, что мы едем к царю… И с ней надо было говорить…
Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. Он был, кажется, в Гатчине. Он сообщил нам, что по приказанию государя накануне, или еще 28 числа, выехал по направлению к Петрограду… Ему было приказано усмирить бунт… Для этого, не входя в Петроград, он должен был подождать две дивизии, которые были сняты с фронта и направлялись в его распоряжение… В качестве, так сказать, верного кулака ему было дано два батальона георгиев-цев, составляющих личную охрану государя. С ними он шел до Гатчины… И ждал… В это время кто-то успел разобрать рельсы, так что он, в сущности, отрезан от Петрограда… Он ничего не может сделать, потому что явились «агитаторы», и георгиевцы уже разложились… На них нельзя положиться… Они больше не повинуются… Старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать…
Но надо было спешить… Мы ограничились этим телеграфным разговором…
Все же мы ехали очень долго… Мы мало говорили с А. И. Усталость брала свое… Мы ехали, как обреченные… Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершалось не при полном блеске сознания… Так надо было… Мы бросились на этот путь, потому, что всюду была глухая стена… Здесь, казалось, просвет… Здесь было «может быть»… А всюду кругом было – «оставь надежду»…
Разве переходы монаршей власти из рук одного монарха к другому не спасали Россию? Сколько раз это было…
В 10 час. вечера мы приехали. Поезд стал. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освещали рельсы. Через несколько путей стоял освещенный поезд… Мы поняли, что это императорский…
Сейчас же кто-то подошел…
– Государь ждет вас…
И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отвратить?
Нет, нельзя… Так надо… Нет выхода… Мы пошли, как идут люди на все самое страшное, – не совсем понимая… Иначе не пошли бы…
Но меня мучила еще одна мысль, совсем глупая…
Мне было неприятно, что я являюсь к государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке…
С нас сняли верхнее платье. Мы вошли в вагон.
Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенам… Несколько столов… Старый, худой, высокий желтовато-седой генерал с аксельбантами…
Это был барон Фредерике…
– Государь император сейчас выйдет… Его величество в другом вагоне…
Стало еще безотраднее и тяжелее…
В дверях появился государь… Он был в серой черкеске… Я не ожидал его увидеть таким…
Лицо?
Оно было спокойно…
Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно…
– А Николай Владимирович?
Кто-то сказал, что генерал Рузский просил доложить, что он немного опоздает.
– Так мы начнем без него.
Жестом государь пригласил нас сесть… Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика, придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я – рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерике…
Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко… и глухо.
Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо.
Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех пор… Похудел… Но не в этом было дело… А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. И в это мгновение я почувствовал, что эта коричневая кожа с морщинками, что это маска, что это не настоящее лицо государя, и что настоящее, может быть, редко кто видел, может быть, иные никогда, ни разу не видели… А я видел тогда, в тот первый день, когда я видел его в первый раз, когда он сказал мне: