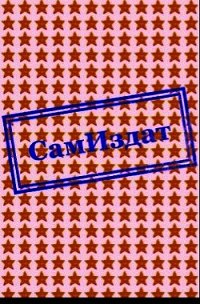Младший сын - Балашов Дмитрий Михайлович (читать книги онлайн регистрации TXT) 📗
Кони ждут у крыльца, нетерпеливо встряхивают гривами. Данил Лексаныч, молодой князь московский, прощается с государыней-матерью, с княжьим теремом, со старухою нянькою, с дворней, с родимым Переяславлем.
Тоненький большеглазый десятилетний мальчик, с волосами светлыми, как неспелая рожь, с задумчивым и печальным взглядом, в белой полотняной рубашке стоит на крыльце. Мальчик провожает дядю Данила, и ему грустно. Данил выходит на крыльцо и подымает племянника на руки.
– Ну что, Ваня, будешь меня помнить?
Мальчик без улыбки кивает в ответ и тихонько отвечает:
– Буду.
Данил прижимает его к себе, гладит по светлым шелковым волосам. Племянник Иван Дмитрич обнимает его за шею, хочет попросить: «Не уезжай!» Но ничего не говорит, знает, что ехать надо. Данил ставит Ваню на крыльцо, ерошит ему волосы: «Не грусти!» Улыбается.
Данил сегодня улыбается с утра, хочет сдержаться и не может, алые губы сами раздвигаются мальчишечьей счастливой улыбкой. Он с вечера сам проверил возы, что укладывали под надзором боярина Федора Юрьича, оружие и рухлядь, запас на первые дни и всякий хозяйственный снаряд. Не потому проверил, что не доверял Федору Юрьичу, а потому, что хотелось (впервые!) почувствовать себя, наконец, хозяином. Припас был свой, и оружие, и снаряд, и все тут было свое теперь. С этим начинать хозяйство там, в Москве, про которую он и посейчас знал лишь только, что «ловли там хорошие». И для ловлей тоже приготовлен припас: силки, капканы, сети, охотничьи стрелы, рогатины.
В особом ларце, в княжеском возке, сокровища. Не бог весть и какие: каменный ларец, как говорят, цесаря Августа, серебряные кубки, кольца, несколько серебряных поясов, один с камением, изукрашен, да золотая иконка, да крестик… Немного, да опять же свои. И дорогие одежды в коробьи тоже свои. Голубого шелка зипун с разрезными рукавами, бобровая шубка, бархатный опашень, несколько шелковых рубах, парчовый долгий сарафан для выходов да шапка, шитая серебром, с каменьями и с соболиной опушкой. В ней он будет сидеть в думе, принимать послов… Будут теперь и послы! В ней – править суд. И суд теперь будет он править, как полагается князю.
Кони нетерпеливо перебирают копытами. Мать-государыня выходит на крыльцо. Молодые бояре князя московского садятся в седла. Данил нарочито неторопливо, покачивая плечами, сходит по ступеням крыльца. Он весь угловатый, еще нескладный, как молодой породистый пес, и немножко смешно, когда он так вот изображает взрослого. Его большой нос на худом лице, худая шея, и эти никак не складывающиеся, сами улыбающиеся алые губы, и голос, низкий, но с невольными еще звонкими срывами – все упрямо свидетельствует, что владетельному хозяину московского удела еще только шестнадцать лет.
Государыня-мать, рыхлая, широкая, уж очень старая, смотрит на него с крыльца. «Женить нать! – думает она, пока улыбающийся сын садится в седло и машет ей рукою. – Невеста, дочь муромского князя, уже почти присмотрена. Говорят, красивая. Надо самой поглядеть». Данил отъезжает. Кони, картинно ступая, пересекают Красную площадь. Позади остаются княжеские хоромы, белокаменный собор, шумный торг, слободские низкие домики…
Дмитров, где Данилу с дружиной чествовали в княжеском терему, остался позади. Едут лесом. Белки взлетают по стволам прямо перед мордами коней. Лоси лениво отбегают с дороги. Все в пятнах и кружеве солнечного света. Тут уже все свое: и лес, и белки, и солнце, и медовый дух цветущего вереска, и незабудки – брызги небесной голубизны – тоже свои. Первая росчисть, первая деревня… Жарко. Пахнет разогретой смолой. Тонким дурманящим духом болиголова тянет с болот. Открываются поляны в белой кипени или в солнечно-желтом разливе цветов…
Ближе к Москве деревни пошли гуще. Мужики настороженно глядели вслед верхоконной дружине, гадая, к худу иль добру приезд незнакомых, судя по платью, боярчат.
Данила торопился. Обоз давно уже остался позади. На переправе через Клязьму их наконец встретили несколько московских бояр со слугами и дарами. Дары были бедноваты, и бояре смотрели скорее с любопытством, чем почтительно. С коней они не слезли. Старший из встречных бояринов ошибкой обратился было к ключнику, осанистому и видному собою Кочеве, приняв его за князя. Данил был одет как все, в простом платье. Протасий, заглядывая сбоку в напряженное, с сомкнутыми губами и двигающимся кадыком лицо Данилы, хотел было вмешаться, но Данил чуть повел головой, запрещая, и, дав боярину произнести уже первые слова приветствия, сказал резко, чуточку побледнев:
– Князь я.
Боярин огляделся и по смущению ключника, по напряженным лицам остальной дружины уразумел что-то, а внимательнее вглядевшись в закипающие гневом глаза молодого голенастого парня в холщовой распахнутой летней чуге, вдруг понял и начал торопливо слезать с коня. Спешились и остальные. Данил, двигая кадыком, продолжал молчать, скорее тоже от растерянности. Он совсем не представлял, что его так оскорбительно могут встретить. Но это и оказалось лучше всего. Молчал он, молчала, натягивая поводья, дружина, молчал Протасий, решительно сжимая в кулаке тяжелую плеть, и спешившиеся москвичи, пересаливая в другую сторону, повалялись в ноги. Скоро подскакал великокняжеский наместник, знавший Данилу в лицо, и тоже спешился с многословными извинениями: не ожидали князя-батюшку так скоро… Данил едва взглянул на дары, кивнул Протасию:
– Прими! – Обратившись к наместнику, спросил отрывисто: – Когда будет встреча?
Тот, переглянувшись с местными боярами и проводив глазами принятые и непринятые дары, уразумел в свою очередь и заверил, что торжественная встреча назначена на утро, а сейчас его только хотят проводить до ночлега и просят принять хлеб-соль. Данил глядел на него и через него и не шевелился. Протасий, двинувшийся было вперед, молча натянув поводья, вспятил коня. И опять Данил угадал правильно. Это была еще одна невежливость: подносить хлеб-соль прежде торжественной встречи не полагалось. Москвичи, воспрянувшие было при словах наместника, чуя затянувшееся молчание, опять запереглядывались. Данил, так и не ответив наместнику, повернулся к Протасию, дернул головой вбок:
– Пошли кого ни то!
Протасий решительно направил коня на бояр с хлебом-солью, и те торопливо стали заворачивать развернутое полотенце и садиться на коней. Скоро весь встречный отряд во главе с наместником и с людьми Данилы в опор ускакал вперед.
Данил ехал рядом с Протасием, который, напрягая мышцы, удерживал коня так, чтобы быть и рядом и на пол конской морды позади князя. Данил долго молчал, забыв свою давешнюю улыбку, которая всю дорогу не сходила у него с лица, потом сказал сквозь зубы, срывающимся голосом, глядя прямо перед собой:
– Они что, и здеся меня будут дразнить московським князем?!
Протасий, невольно улыбнувшись, вовремя прикусил губу…
Торжественно встречали их на другое утро. Данила, уже пересердившись, словно бы и не помнил вчерашнего. К тому же чин был полностью соблюден, дары (видно, что наспех собранные) обильны, московские бояре почтительны. Он опять не захотел ждать обоза, помчался – теперь уже с сильно увеличившейся дружиной – вперед. К Москве подъезжали засветло. Ехали долиной речки Неглинки, уже густо распаханной, мимо череды изб и кое-где владельческих хором, изредка прерывающихся островками смешанного леса. На вырубках еще подымался густой веселый березняк, а уже под самым городом и он расступился, и открылась потемневшая бревенчатая крепостца на горе. «Вроде Клещина!» – отметил про себя Данила, умеряя ход лошади. Негустая толпа горожан выстроилась для встречи, тоже с хлебом-солью, которые поднес большой сивобородый дед. Данил, принимая хлеб, улыбнулся и сказал:
– Спасибо, дедушка!
Как-то само прорвалось, не подумал, от мальчишеских лет, а вышло опять хорошо. В толпе заулыбались, закивали князю.
Внутри крепостцы было десятка четыре хором, простых и боярских, рубленая церковка, торговый и ордынский дворы. Для князя приготовили хоромы, но Данила даже и при беглом взгляде на все увидел ветхость и запустение. И запустение было обидным, больше всего в небрежении гляделись боевая городня и княжой двор, словно бы уже и забыли про князей в этой лесной вятичской стороне!