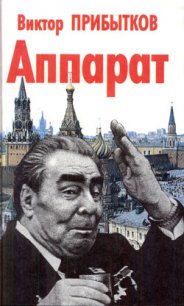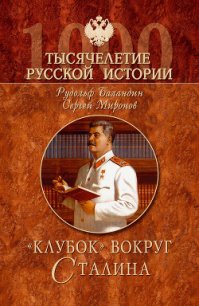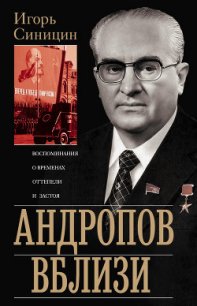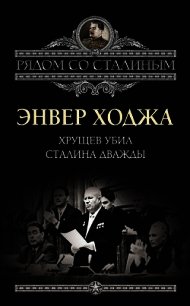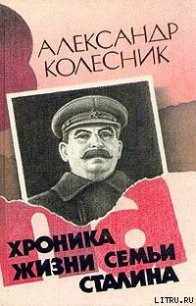Воспоминания бывшего секретаря Сталина - Бажанов Борис (читаем книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Суть власти — насилие. Над кем? По доктрине, прежде всего над каким-то классовым врагом. Над буржуем, капиталистом, помещиком, дворянином, бывшим офицером, инженером, священником, зажиточным крестьянином (кулак), инакомыслящим и не адаптирующимся к новому социальному строю (контрреволюционер, белогвардеец, саботажник, вредитель, социал-предатель, прихлебатель классового врага, союзник империализма и реакции и т. д. и т. д.); а по ликвидации и по исчерпании всех этих категорий можно создавать всё новые и новые: середняк может стать подкулачником, бедняк в деревне — врагом колхозов, следовательно, срывателем и саботажником социалистического строительства, рабочий без социалистического энтузиазма — агентом классового врага. А в партии? Уклонисты, девиационисты, фракционеры, продажные троцкисты, правые оппозиционеры, левые оппозиционеры, предатели, иностранные шпионы, похотливые гады — всё время надо кого-то уничтожать, расстреливать, гноить в тюрьмах, в концлагерях — в этом и есть суть и пафос коммунизма.
Но в начале революции сотни тысяч людей вошли в партию не для этого, а поверив, что будет построено какое-то лучшее общество. Постепенно (но не очень скоро) выясняется, что в основе всего обман. Но верующие продолжают ещё верить; если кругом творится чёрт знает что, это, вероятно, вина диких и невежественных исполнителей, а идея хороша, вожди хотят лучшего, и надо бороться за исправление недостатков. Как? Протестуя, входя в оппозиции, борясь внутри партии. Но путь оппозиций в партии — гибельный путь. И вот уже все эти верующие постепенно становятся людьми тех категорий, которые власть объявляет врагами (или агентами классовых врагов); и все эти верующие тоже обречены — их путь в общую гигантскую мясорубку, которой со знанием дела будет управлять товарищ Сталин.
Постепенно партия (и в особенности её руководящие кадры) делится на две категории: те, кто будет уничтожать, и те, кого будут уничтожать. Конечно, все, кто заботится больше всего о собственной шкуре и о собственном благополучии, постараются примкнуть к первой категории (не всем это удаётся: мясорубка будет хватать направо и налево, кто попадёт под руку); те, кто во что-то верил и хотел для народа чего-то лучшего, рано или поздно попадут во вторую категорию.
Это, конечно, не значит, что все шкурники и прохвосты благополучно уцелеют; достаточно сказать, что большинство чекистских расстрельных дел мастеров тоже попадут в мясорубку (но они — потому, что слишком к ней близки). Но все более или менее приличные люди с остатками совести и человеческих чувств наверняка погибнут.
По моей должности секретаря Политбюро я сталкивался со всей партийной верхушкой. Должен сказать, что в ней было очень много людей симпатичных (я не выношу окончательного суждения — я говорю о том, как я их видел в тот момент). Чёрт толкнул талантливого организатора и инженера Красина к ленинской банде профессиональных паразитов. Редко я встречал более талантливого организатора, на лету всё схватывающего и всё понимающего, чем Сырцов. А за что бы ни брался присяжный поверенный Бриллиант (Сокольников), со всем он блестяще справлялся.
Другие были менее блестящи, но порядочны, приятны и дружелюбны. Орджоникидзе был прям и честен. Рудзутак — превосходный работник, скромный и честный, Станислав Коссиор, твёрдо хранивший свою наивную веру в коммунизм (когда был арестован чекистами, несмотря ни на какие пытки, не хотел возводить на себя ложные обвинений; чекисты привели его шестнадцатилетнюю дочь и изнасиловали у него на глазах; дочь покончила с собой; Коссиор сломался и подписал всё, что от него требовали).
Почти со всеми членами партийной верхушки у меня превосходные личные отношения, дружелюбные и приятные. Даже сталинских сознательных бюрократов — Молотова, Кагановича, Куйбышева не могу ни в чём упрекнуть, они всегда были очень милы.
А в то же время разве мягкий, культурный и приятный Сокольников, когда командовал армией, не провёл массовых расстрелов на Юге России во время гражданской войны? А Орджоникидзе на Кавказе?
Страшное дело — волчья доктрина и вера в неё. Только когда хорошо разберёшься во всём этом и хорошо знаешь всех этих людей, видишь, во что неминуемо превращает людей доктрина, проповедующая насилие, революцию и уничтожение «классовых» врагов.
Глава 14. Последние наблюдения. Бежать из социалистического рая
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. МАЯКОВСКИЙ. ЭЙЗЕНШТЕЙН. СОСТЯЗАНИЕ С «БУРЖУАЗНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ». ПОЕЗДКА В НОРВЕГИЮ. ПЕРВАЯ ПОПЫТКА БЕЖАТЬ. АЛЁНКА. ЗА ГРАНИЦУ УЕХАТЬ НОРМАЛЬНО НЕЛЬЗЯ
В июне 1925 года Политбюро решило навести порядок в художественной литературе. Была выделена комиссия ЦК, сформулировавшая резолюцию «О политике партии в области художественной литературы». Суть резолюции. которую Политбюро утвердило, была та, что «нейтральной литературы нет» и советская литература должна быть средством коммунистической пропаганды. Забавен состав комиссии: председателем её был глава Красной Армии Фрунзе (до этих пор ни в каких отношениях с литературой не уличённый), членами — Луначарский и Варейкис. Варейкис был человек не весьма культурный. Но будучи секретарём какого-то губкома (кажется, воронежского), в местной губернской партийной газете он написал передовую, направленную против очередной оппозиции; и он заканчивал статью, обращаясь к этой оппозиции цитатой из «Скифов» Блока: «Услышите, как хрустнет ваш скелет в тяжёлых наших нежных лапах». Зиновьев на заседании Политбюро привёл этот случай, как анекдотическую вершину бездарности аппаратчика. Этого было достаточно, чтобы Сталин выдвинул Варейкиса на пост заведующего Отделом Печати ЦК, на котором Варейкис некоторое время и пробыл.
Став внутренним эмигрантом, я был бы не прочь познакомиться с лучшими писателями и поэтами страны, не принимавшими коммунизма, и к которым я чувствовал глубокое уважение: Булгаковым, Ахматовой. Но, увы, я уже предрешил моё бегство за границу, и моё близкое знакомство с ними могло бы им причинить большие неприятности после моего бегства. Наоборот, с коммунистическими литераторами я мог свободно знакомиться — они ничем не рисковали.
Маяковского первого периода, дореволюционного и футуристского, я, конечно, не знал. Энциклопедии согласно утверждают, что он стал большевиком с 1908 года. В это время ему было четырнадцать лет. Судя по его стихотворениям этого, дореволюционного периода, он во всяком случае был на правильном пути, чтобы стать профессиональным революционером и настоящим большевиком. Он писал, что его очень занимал вопрос:
«…как без труда и хитрости
Карманы ближнему вывернуть и вытрясти».
Точно так же у него уже сформулировано было нормальное для профессионального революционера отношение к труду:
Я узнал поэта лишь во второй период, послереволюционный, когда он, с партбилетом в кармане, бодро и одушевлённо направлял поэзию по коммунистическому руслу. В 1921 году прошла чистка партии, и Маяковский «объявил чистку современной поэзии». Это было пропагандное, не лишённое остроумия издевательство над поэтами, не осенёнными благодатью коммунизма. Я в то время был студентом Высшего Технического. «Чистка» происходила в аудитории Политехнического Музея. Публика была почти поголовно студенческая. Проводя «чистку» в алфавитном порядке и разделавшись по дороге с Ахматовой, которая будто бы в революции увидела только, что «всё разграблено, продано, предано», Маяковский дошёл до Блока, который незадолго до этого умер. «Маяковский, — пищит какая-то курсистка, — о мёртвых либо хорошо, либо ничего». «Да, да, — говорит Маяковский, — так я и сделаю: скажу о покойнике то, что почти ничего собой не представляет и в то же время очень хорошо его характеризует. Жил я в то время, о котором идёт рассказ, на Гороховой, недалеко от Блока. Собрались мы печь блины. Заниматься кухней мне не хотелось, и я пошёл на пари, что пока блины будут готовы, я успею сбегать к Блоку и взять у него книгу его стихов с посвящением. Побежал. Прихожу к Блоку. Так и так, уважаемый Александр Александрович; высоко ценя ваш изумительный талант (вы уж знаете, я, если захочу, могу такого залить) и т. д. и т. д., вы бы мне, конечно, книжечку Ваших стихов с посвящением. — Хорошо, хорошо, — говорит Блок; берёт книжку своих стихов, выходит в соседнюю комнату, садится и думает. Десять минут, двенадцать минут… А у меня пари и блины. Я просовываю в дверь голову и говорю: „Александр Александрович, мне бы что-нибудь…“ Наконец написал. Я схватил книжку и бегом помчался домой. Пари я выиграл. Смотрю, что Блок написал: „Владимиру Маяковскому, о котором я много думаю“. И над этим надо было семнадцать минут думать!