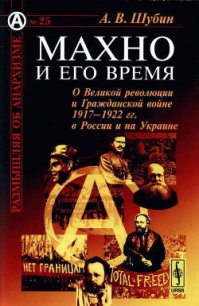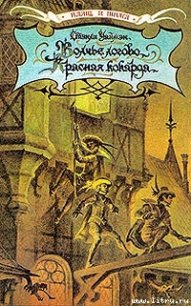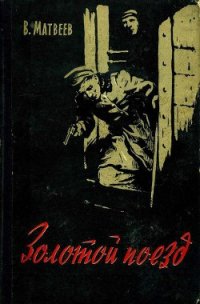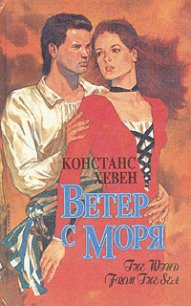Три портрета эпохи Великой Французской Революции - Манфред Альберт Захарович (книги онлайн бесплатно серия .TXT) 📗
Этот мемуар Людовику XVI заслуживает по многим причинам внимания. Мемуар — это первое прямое обращение Мирабо к королю. Но важна не эта, формальная сторона дела. Существенно иное. Для короля, для двора, для всей королевской партии в целом обращение Мирабо должно было представляться неслыханной, беспримерной дерзостью. Не только потому, что этот дворянин из Прованса, хотя и соблюдал все положенные формы почтительности к монарху, по существу обращался к нему как равный к равному; он не только забыл о расстоянии, разделяющем их — подданного и монарха, но и брал на себя смелость давать королю советы, т. е., если называть вещи своими именами, учить короля.
И само содержание преподанных советов должно было представляться двору чудовищным. Советчик хотел лишить монархию всех ее прерогатив, всех ее прав. Этот дерзкий депутат имел наглость предложить монарху добровольно согласиться с жалкой ролью исполнителя решений могущественного законодательного собрания, представлявшего волю нации.
Даже после второго поражения в октябре 1789 года королевская партия отнюдь не считала свое дело проигранным. У нее в запасе были еще сильные козыри; в нужный час они будут введены в игру. Мемуар Мирабо был с негодованием отвергнут и оставлен, естественно, без ответа. Весьма вероятно, что под впечатлением возбудившего негодование двора дерзкого послания Мирабо Мария-Антуанетта произнесла эту известную фразу: «Я надеюсь, что мы никогда не будем настолько несчастны, чтобы оказаться в прискорбной необходимости прибегнуть к советам Мирабо».
Но октябрьский мемуар Мирабо требует рассмотрения его и с иной стороны. Как соотнести его с программой конституционалистов, т. е. группировки крупной буржуазии и либерального дворянства? Они почти полностью совпадают. То, что рекомендовал Мирабо королю, может быть, в чем-то шло дальше желаний Ла-файета — Байи. Никто бы из них, никто из этих господ, представлявших самых богатых собственников Франции, не потребовал бы, например, отмены феодализма. К чему эти крайности? Но в остальном программа Мирабо была для них полностью приемлемой.
Именно поэтому и Лафайет, и Мунье, и Сиейес, и Ле Шапслье — все эти политические дельцы, каждый из которых наедине с собой прикидывал варианты рассчитанной на многие годы вперед сложной игры, обеспечивающей в эндшпиле выигрыш, считали необходимым в 1789-1790 годах стушевываться перед Мирабо, выдвигать его на первый план: человека, олицетворявшего в глазах народа революцию, было выгодно иметь лидером своей фракции. Имя Мирабо могло замаскировать узкоэгоистические, корыстные расчеты крупной буржуазии, стремившейся удержать в своих руках власть.
Мирабо не был так прост, чтобы не разгадать побудительные мотивы своих друзей-соперников. Он ни на грош не имел к ним доверия, и они не внушали ему личных симпатий. Но в важных политических вопросах их позиции совпадали или были близки. Почему же не идти какую-то часть пути вместе?
После того как период всеобщего братства и братания, упоения первыми победами, розовых надежд довольно быстро, к осени 1789 года, закончился, и противоречия классовых интересов расслаивали и разделяли прежде единый лагерь революции, четко определились две главные противоборствующие тенденции: дальнейшего развития и углубления революции и торможения ее. Сторонников первой первоначально называли демократами, второй — либералами или конституционалистами; позже их стали обозначать иными терминами. Эта главная линия политического размежевания была закреплена созданием вскоре и раздельных группировок. Первоначально все противники абсолютизма входили в один, общий для всех политический клуб; в Версале его называли Бретонским, после переезда Собрания в Париж — Якобинским (по занимаемому им помещению). Но в конце 1789 года Лафайет, Мунье, Байи и другие либералы сочли необходимым выйти из Якобинского клуба и создать свою обособленную организацию — «Общество 1789 года»; позже ее стали называть Клубом фейянов. Новый клуб был более узким и замкнутым, чем Клуб якобинцев, замкнутым вполне намеренно: весьма высокие членские взносы преграждали доступ в него демократическим элементам.
Мирабо по приглашению инициаторов создания нового клуба вступил в его состав и сразу же стал одним из авторитетнейших лидеров «Общества 1789 года». Самый факт вступления Мирабо в это общество требует должной оценки. Он раскрывал и общее направление его политической линии в революции, и, следовательно, его эволюцию в будущем: Мирабо становился на путь торможения революции. Это значило, что при начавшемся размежевании его относило вправо.
Но как политический деятель, политический лидер Мирабо был неизмеримо более тонким и гибким, чем его друзья-соперники из «Общества 1789 года». Развитие революционного процесса влекло за собой чрезвычайно быструю политическую девальвацию имен. Неккер, пользовавшийся громадной популярностью весной 1789 года, осенью был уже полностью обесценен; за три месяца он растратил весь политический кредит, он превратился в ничто. Примерно то же, но не в столь крайней форме происходило с Лафайетом.
Мирабо среди политических лидеров 1789 года оказался, пожалуй, единственным, кто сумел избежать политической девальвации. Ему удалось удержать популярность в широких народных массах. Он умел сохранять доверие народа, и тот же безошибочный инстинкт великого артиста вдохновлял его порой на самые рискованные импровизации, оказывавшиеся неожиданно удачными. Так, например, когда Собрание отменило все сословные привилегии, в том числе и дворянские титулы, и, согласно новому закону, граф де Мирабо должен был именоваться гражданином Рикетти, Мирабо отказался подчиниться этому решению. «Европа знает только графа де Мирабо», — высокомерно заявил он и продолжал выступать и подписываться именем Мирабо. С этим должны были считаться.
Он сохранял по-прежнему и внешний облик, и повадки гран-сеньора: пышный парик, крахмальное жабо, высоко, гордо поднятая голова.
Не только в этих внешних жестах, в политике Мирабо был гораздо тоньше своих коллег. Побывав на нескольких заседаниях «Общества 1789 года», он скоро пришел к выводу, что в силу своей кастовой замкнутости оно не имеет будущего; оно ранее других вступит в конфликт с народом. Мирабо снова вернулся в Якобинский клуб и охотно и часто выступал на его заседаниях; он быстро понял, что это организация, которой предстоит играть крупную роль. В 1790 году он был избран в соответствии с уставом на определенный срок председателем Якобинского клуба. Его избирали так же на время председателем Учредительного собрания. Он деятельно работал в комиссиях Собрания; особенно велика была его роль в дипломатическом комитете; важнейшие вопросы внешней политики Франции уже не решались без учета его мнения. Словом, в 1789 — 1790 годах Мирабо стал не только именем, олицетворявшим во всем мире французскую революцию, но и наиболее влиятельным политическим лидером новой Франции.
Мирабо не был бы самим собой, если бы за величавой осанкой и барственными манерами самоуверенного аристократа, отягощенного к тому же европейской славой великого трибуна, не скрывалась колеблющаяся, подвижная, зыбкая тень чего-то всегда ищущего, готового идти на самый неожиданный риск авантюриста.
За последние два-три года он пережил самые невероятные метаморфозы. Из травимого, постоянно преследуемого скитальца и узника Венсенскои башни он стал, как по мановению волшебной палочки, самым знаменитым и самым авторитетным политическим вождем страны, приковавшей внимание всего мира.
Эмили, его бывшая жена, прелестная, лживая, умная Эмили, грызла ногти с досады. Она кляла себя и особенно свою родню — этих глупых, ничего не понимающих, жадных Мариньянов, толкнувших ее на столь позорный процесс. Она купалась бы теперь в лучах славы Мирабо. Ведь она первая его оценила. Как же она не разглядела великого будущего, ожидавшего его и ее. Она старалась дать понять Оноре, что она готова покаяться, признать себя виноватой — все, что угодно, лишь бы вернуться к прошлому, представлявшемуся ей теперь таким счастливым.