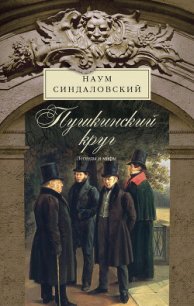Очерки Петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор - Синдаловский Наум Александрович
После кончины Анны Иоанновны Педрилло вернулся в Италию. О дальнейшей его жизни, похоже, ничего неизвестно. Эпоха придворных шутов приближалась к концу. Однако традиция присваивать прозвища продолжилась, теперь уже в актерской среде. Прозвища приобретали подчеркнуто облагороженный оттенок и получали статус псевдонима. В середине XIX века стало модным давать актерам вычурные и витиеватые сценические имена, образованные от названий драгоценных камней: Хруст алев, Сердоликов, Жемчугова.
Настоящая фамилия Прасковьи Ивановны Жемчуговой – Ковалева. Под своей новой фамилией Прасковья Ивановна вошла не только в историю русского театра, но и в родовую биографию графов Шереметевых. С 1779 по 1798 год она выступала в подмосковном крепостном театре Шереметевых в Кускове. Кроме актерского мастерства, Жемчугова обладала прекрасным сопрано, была хорошо образована, знала французский и итальянский языки.
В середине 1790-х годов в жизни Жемчуговой произошли неожиданные перемены. В нее страстно влюбился владелец усадьбы граф Николай Петрович Шереметев. В 1796 году, после воцарения Павла I, Шереметев переехал в Петербург. Вместе с ним в столицу прибыла Жемчугова. Попытки узаконить совместное проживание успехом не увенчались. Павел отказал Шереметеву в праве обвенчаться со своей бывшей крепостной. Обвенчались тайно. Только с воцарением Александра I разрешение на брак было получено. Но и тут не обошлось без фольклора. Правда, официального. Была придумана легенда, согласно которой происхождение Параши Ковалевой велось от некоего польского шляхтича по фамилии Ковалевский.
Наконец, начали готовиться к свадьбе. Перестраивали родовой дворец на Фонтанке. Пристраивали так называемый Свадебный флигель. Но случилось несчастье. Вскоре после рождения сына Прасковья Ивановна умерла. Граф был в отчаянии. Установил в саду Фонтанного дома, как называли в народе Шереметевский дворец, бюст своей любимой, но жить в Петербурге уже не смог. Вернулся в Москву. Основал знаменитый Странноприимный дом, будто бы в память о своей любимой супруге Жемчуговой.
Прах крепостной актрисы Параши Жемчуговой под фамилией жены графа Н.П. Шереметева Прасковьи Ивановны Шереметевой покоится в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры. Мраморный саркофаг над ее могилой выполнен мастером К. Дрейером. А старинные стены Фонтанного дома до сих пор хранят память о своей молодой хозяйке. В саду живы две липы, по преданию посаженные лично Прасковьей Ивановной, хотя на самом деле оба дерева явно более позднего происхождения. И, как утверждают современные обитатели Шереметевского дворца, время от времени в дворцовых покоях можно встретиться с мелькающей тенью бывшей крепостной актрисы, ставшей некогда женой обер-камергера двора его императорского величества графа Шереметева.
Надо сказать, несмотря на то что унизительная профессия лакейского шутовства, призванного потешать монаршие особы, выродилась, традиции древнего языческого искусства скоморошества сохраняются. Атавистические признаки этого явления легко обнаружить в застольном зубоскальстве язвительных пересмешников и в салонном балагурстве завзятых острословов. Их остроумие становится притчей во языцех всего общества, а их шутки превращаются в расхожие анекдоты и меткие афоризмы. Среди шедевров их искрометного творчества встречаются и придуманные ими псевдонимы.
Одним из последних петербургских чудаков был поэт Даниил Хармс, абсурдистские стихи которого сегодня хорошо знакомы читателям. На самом деле Хармс как гениально одаренный поэт был хорошо известен в поэтических кругах Ленинграда еще в 1920-х годах. Он считался бесспорным лидером поэтической группы, называвшей себя «Объединением реального искусства», более известным в истории литературы по знаменитой аббревиатуре ОБЭРИУ Обэриуты объявили себя «творцами не только нового поэтического языка, но и создателями нового ощущения жизни».
Настоящая фамилия Даниила Ивановича Хармса – Ювачев. Псевдоним, если верить фольклору, двадцатилетний поэт образовал не то из английского слова «харм», не то из французского «шарм», что на этих языках значит «очарование». Есть и другая легенда, пытающаяся объяснить этимологию псевдонима Хармса. Как известно из его биографии, Хармс учился в знаменитой немецкой школе при Лютеранской церкви святого Петра – Петершуле. Среди его учителей была некая немка Хармсен. Карликового роста, и к тому же прихрамывавшая на одну ногу, она служила объектом постоянных насмешек безжалостных школяров. Шла Первая мировая война, немцы в ней были противниками России, и Даня Ювачев учительницу просто ненавидел. Прошло время, война закончилась, как и обучение в школе, а фамилия ненавистной немки никак не уходила из памяти. И тогда будто бы он решил превратить ее в собственный псевдоним. Ради мести? На память? Или во искупление детской вины перед несчастной хромоножкой?
Хармс поражал друзей чарующим обликом «загадочного иностранца», разгуливая по советскому Ленинграду в англизированной серой куртке, жилете и коротких брюках, заправленных в сапоги. Это была не просто мода, но стиль жизни, которому Хармс не изменял даже в домашней обстановке. В его квартире стояли старинные фолианты по хиромантии и черной магии, висели оккультные эмблемы и символы, звучала старинная музыка Да и само его творчество носило явный отпечаток парадоксальности и абсурда. Напомним, что одно из ранних творческих объединений, которое Хармс создал в Ленинграде, называлось «Орден заумников».
По городу о Данииле Хармсе ходили самые странные рассказы. Его жизнь многим казалась сродни жизни героев его чудесных произведений. Однажды в Госиздате, что раполагался на шестом этаже Дома книги, он, не сказав никому ни слова, с каменным лицом человека, знающего, что делает, вышел в окно редакции и по узкому наружному карнизу вошел в другое окно. О его чудачествах знал весь город. Например, он «изводил управдома тем, что каждый день по-новому писал на дверях свою фамилию – то Хармс, то Чармс, то Гаармс, то еще как-нибудь иначе».
В первый раз Хармса арестовали в 1931 году. Осудили и сослали в Курск. Но затем разрешили вернуться в Ленинград. В 1941 году его арестовали во второй раз. Обвинили в «пораженческих настроениях». Будто бы он отказался служить в армии. Взяли его на улице, никто из друзей и соседей так и не понял, в чем дело. Говорили, что он просто вышел из дому – как будто в соседнюю лавку за спичками, и не вернулся. Дальнейшие следы Хармса затерялись в бесконечных коридорах Большого дома. По легенде, следователь будто бы спросил Хармса: «Нет ли у вас каких-нибудь желаний, которые я мог бы выполнить?» – «Есть, – будто бы оживился Хармс, – я хочу каждую ночь спать в новой камере». Говорят, что желание его было исполнено, и он умер в какой-то одиночной камере от голода, потому что о нем будто либо забыли, либо запутались, где он в тот день находится. Еще по одной легенде, Хармса объявили сумасшедшим, поместили в тюремную психиатрическую больницу, где он и скончался. Была, впрочем, и третья легенда. Будто бы Хармс сам симулировал шизофрению, чтобы в больничной палате скрыться от всевидящего ока «Красной Гебни», как расшифровывали тогда зловещую аббревиатуру КГБ.
Долгое время подлинная причина и место смерти Хармса были неизвестны. Наконец, когда архивы Большого дома стали доступны, выяснилось, что в 1941 году «всех арестованных в спешном порядке вывезли из Ленинграда». Хармс оказался в одной из тюрем Новосибирска. Там, в тюремной больнице, он и скончался.
Остроумным любимцем публики слыл в Ленинграде уже однажды упоминавшийся нами композитор Василий Павлович
Соловьев-Седой. Его подлинная родовая фамилия Соловьев. В детстве у него выгорали волосы настолько, что отец, да и мальчишки во дворе звали его Седым. А когда он стал композитором, фамилия Соловьев ему вообще разонравилась. «Уж больно много было Соловьевых», – будто бы говорил он. И прибавил к фамилии свое детское прозвище. Правда, и это не спасло его от молвы. Одно время в Ленинграде была популярна эстрадная шутка Аркадия Райкина: «Соловьев, сами понимаете, Седой!» К слову сказать, Соловьев-Седой и сам отличался резкостью в словах. По этой причине он даже в Москву боялся переезжать. «Меня за язык в Москве посадят. Долго не продержусь».