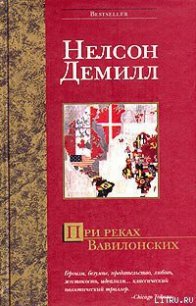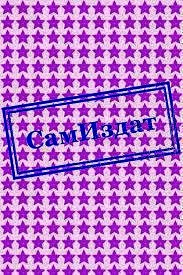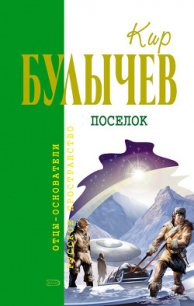Годы эмиграции - Вишняк Марк (бесплатные версии книг txt) 📗
Русским отделением Школы восточных языков заведовал Яков Абрамович Позин. Выходец из Туркестана, он получил высшее образование в Калифорнии, в университете Беркли и докторскую степень за работу о Чернышевском, Добролюбове и Писареве. В юные годы очень левых настроений, принимавших порою соответственное выражение, Позин, когда я познакомился с ним, видимо, совершенно отошел от политики, - по крайней мере никогда не касался ее в разговорах, в которых я участвовал или при которых присутствовал. Яков Абрамович и его жена, Францес Залмановна, встретили нас и Мещерских приветливо и так же относились в течение всех полутора лет, что я находился "под началом" Якова Абрамовича. Мы оба "соблюдали дистанцию", отделявшую "начальство" от "подчиненного" или подведомственного, - пока между нами и нашими женами не сложились совсем другие отношения. Мы подружились с четой Позиных, и я остался верен этой дружбе по сей день.
Школа восточных языков закрылась в июне 1946 года, и Позины переселились в Пало Альто, по соседству со Стэнфордом, где Яков Абрамович занял кафедру русского языка, литературы и цивилизации. А в 1955 году мы с женой отправились на летний отпуск в Калифорнию и, после Сиатля и Беркли, где я прочитал в университете публичную лекцию о "Праве убежища" (По существу лекция была посвящена "насильственной репатриации", или, проще, - выдаче, по настоянию советской власти, английскими и американскими властями русских военнопленных и невоеннопленных.), попали в Пало Альто. Отсюда Позины повезли нас на юг к океану, в чудесный Кармел. Это было последнее предсмертное путешествие {181} жены. Позины пробыли с нами несколько дней, а месяц спустя отвезли нас обратно в Пало Альто, жену - прямо в госпиталь.
Вместе провели мы сравнительно недолго, но условия, в которых мы были и исключительная предупредительность со стороны Позиных, особенно Францес, сократили обычные сроки, которых требует прочное сближение. Я стал пожизненно их моральным должником. Но всё это, повторяю, произошло много позднее того, когда мы, не без удовольствия покинув в феврале 1946 года Боулдер, расстались и с Позиными.
Наши слушатели Морской Школы восточных языков, как и в Корнеле, были прошедшие высшую школу, но, в отличие от корнельских, не нижние чины армии, а младшие офицеры флота. И среди них были слушатели охотно, даже с увлечением изучавшие русскую премудрость, были и отбывавшие уроки - или лекции, - как тяжелую повинность. Были попавшие в школу по назначению, то есть независимо от своего желания, по начальственному усмотрению, были и добивавшиеся этого собственной настойчивостью, чаще чтобы избежать назначения на корабль, чем из интереса к восточным языкам.
Были очень даровитые, занявшие вскоре кафедры по русской истории или литературе, как Мартин Мэлия, в университете Беркли, Томас Шоу в Висконсине, Хью Мак Лейн в Чикаго, Руфус Мэтисон в Нью-Йорке, Кенет Харпер в Лос-Анжелос и др. - до 15 профессоров. Но были и бездарные, невежды и лентяи.
Как в Корнеле, мне посчастливилось иметь дело как будто с элитой учащихся. И всё же иногда приходилось удивляться их крайней неосведомленности. От одного слушателя я услышал вопрос о местонахождении Чехословакии - в Азии? .. Но это было всё-таки исключением. Бывали, однако, и другие неожиданности. Одна моя группа состояла вся из юристов, то есть закончивших свое юридическое образование в университете. И вот ни один из входивших в эту группу юристов не слыхал имени Жан Жака Руссо и не читал "Общественного договора", и только один знал о существовании "Крейцеровой сонаты", не Толстого, конечно, а Бетховена.
Не хочу этим сказать, что прошедшие чрез мои аудитории за два с половиной года, примерно 400 американских студентов, были недостаточно культурны или образованы. Нет, но их образование и умственные интересы были направлены и устремлены не на то, на чем сосредоточивались, преимущественно, внимание и интересы студентов в Европе и, в частности, в России. И со своей точки зрения они могли считать меня - и, конечно, считали - недоразвитым, потому что я никак не мог усвоить, неспособен и по сей день, постичь увлекательную страсть и даже самую процедуру национальной американской игры в мяч - "бейсбол", которая захватывает американцев с самого раннего возраста и не оставляет их равнодушными даже перед лицом смерти в Корее и Вьетнаме.
Средний американский юрист мало осведомлен в основах правоведения, входивших обязательным элементом в формирование российских - не советских юристов. Больше того: как правило, {182} американские юристы считают эти основы излишними для практической юриспруденции, сводящейся к знанию прецедентов и умению толковать закон в его задании и применении. Вполне серьезно и с глубоким убеждением в своей правоте, мои студенты доказывали мне, что только в обладании всех секретов американского футбола можно понять и оценить план высадки на Нормандском побережье, осуществленный генералом Айзенгауэром. При этом на доске воспроизводилась мелом схема плана, который непосвященному в таинства американского спорта иноземцу представлялся вариантом Ганнибаловской мудрости о преимуществах "клещей" для атаки противника.
Чтобы сказанное не производило впечатления одностороннего и тенденциозного подхода со стороны, приведу слова одного из деканов университета на приеме, на который и мы, преподаватели Школы, были приглашены. Декан спросил, какого я мнения о наших студентах? Положение создалось трудное. Декана я не знал, видел его в первый раз. Не получив еще американского гражданства, я жил в Америке на положении "резидента" и предпочел уклониться от определенного ответа. За меня ответил сам вопрошавший: мне кажется, студенты недостаточно работают мозгами, - больше ногами ...
Среди преподавателей было несколько перешедших вместе со мной, Мещерскими и Жарих из Корнела. Но большинство было мне незнакомо и, даже познакомившись, мы встречались лишь в Школе или в связи с ней, а не в личном порядке. Ближе всего из ранее мне известных лишь по имени, я сошелся с Григорием Осиповичем Бинштоком, чрезвычайно почитаемым в меньшевистских кругах.
За полтора года совместного пребывания в Школе почти все 10-минутные перерывы - прогулки по кэмпу между уроками-лекциями, мы с Бинштоком проводили вместе в беседах. Он был интереснее других, потому что знал больше многих, как, вероятно, был и наиболее образованным из всех русских преподавателей Школы второй половины 1944 - начала 1946 гг.
Он был - или старался быть - "еретиком" во многих отношениях. Не только политически, а и в более глубоком, "мировоззренческом" отношении. Независимость его взглядов часто сопровождалась парадоксальностью, а то и явной "неувязкой". Меньшевик по партийной принадлежности, он резко осуждал правых меньшевиков - Абрамовича, Далина, Шварца, Николаевского, с которыми связан был общей политической работой в России, и, осуждая их "справа", более чем сочувственно отзывался о лидере левых меньшевиков Дане. Правда, Биншток был связан с последним по родственной линии, но это, конечно, не могло служить для него критерием политической оценки - по существу совсем не радикальной.
Через два года после того, как Морская Школа была закрыта, проф. Позин прочитал доклад на Дальнезападном совещании Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков об "Опыте интенсивной тренировки в русском языке в Морской Школе языков". Доклад тогда же появился в Портлендском журнале "В помощь преподавателю русского языка в {183} Америке". Из этого журнала я узнал многое, чего не знал, будучи одним из действующих лиц, о которых говорилось в докладе, - без упоминания, конечно, имен. Так, оказывается, выбор учебного персонала был "главной проблемой, причинявшей наибольшие заботы" организаторам русского отдела Школы. Преподавателей не хватало: более или менее опытные не желали прерывать своего регулярного преподавания в университете ради временной службы. Пришлось прибегнуть к помощи образованных русских, не имевших никакого опыта (или весьма незначительный) и приготовить детальную программу, которой они должны были следовать. За более чем 25 лет до этого времени (1944) не было волны иммиграции из России. Это означало, что нам приходилось рассчитывать на лиц с дореволюционным русским образованием, и потому средний возраст преподавателей был значительно выше 50 лет".