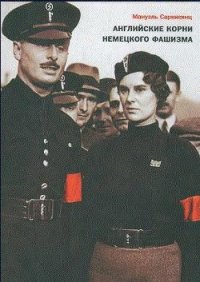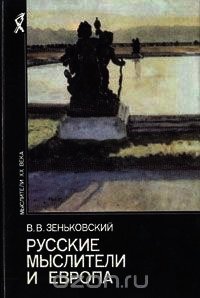Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева - Саркисянц Мануэль (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью txt) 📗
Таким образом и русских семидесятников «крики громкие раскаяния… и [их] битье по собственной груди [breast beating]» должны неизбежно иметь «мазохистский характер». Итак, согласно автору истинно американской книги «Рабская душа России. Моральный мазохизм и культ страдания» даже просто «чувство вины — это „легкий“ мазохизм, а чувство вины из-за чужих грехов — явный мазохизм».
Ведь «служить собственной выгоде обычно лучше, чем вредить себе», — напоминает (по научному) мистер Ранкур {1101}, вполне убедительно по логике обывательской. А враждебность к обывательщине всяких Мережковских, и Блоков, и Белых — это такой вопиющий уклон от американской среднеклассовости, что и она «объясняется» психопатологически — «ненавистью к отцам» {1102}. В такой науке, собственно, выходит, что, поскольку русская интеллигенция противилась мещанству, вся она [все эти Герцены и Ивановы-Разумники, все эти Михайловские да Лавровы] были «травматизированы» своими отцами, «искалечены до того, что мир им казался запутанным и угрожающим [wrecked, finding the world confused and threatening]» — до такой степени, что «уже не способны были они достигнуть психической цельности [psychic integrity]».
И если — как открылось в Америке, в той же научной обывательщине — «жажда мученичества» есть явление поистине «патологическое» {1103}, тогда диктатура обывательщины советской поступила как нельзя более логично, изолировав под психиатрическим предлогом таких диссидентов, как генерал Петр Григоренко [на начала англосаксонских применений таких брежневских примеров указал уже в 1972 г. Морис Норт {1104}]. Ведь писал Григоренко, что те, кто борется с произволом, должны быть готовы взять на себя бремя креста и идти на Голгофу {1105}…)
То, что (особенно в 1870-х гг.) русская революционная интеллигенция мотивировалась стремлением не к «высокому уровню жизни» (high standard of living), а к высокому уровню смерти (см. с. 125–126, 137 наст. изд.), несравнимо дальше от американских представлений, чем все марксизмы-ленинизмы. Из этих представлений самый последовательный вывод вот какой: «Подражать Христу, беря на себя страдание добровольно, — это довольно мазохистское понятие [129]». А «страстное желание мученичества называется мазохистским поведением» {1106}. «Все эти идеи — как, например, [видение] Тютчева („облечение ношей крестной“, см. с. 117) — содержат ясные мазохистские элементы».
«В общем, в Америке и открыли, что мазохизмом полна [русская] культура — от староверческих самосожженцев до самопожертвования интеллигенции XIX века». Так что «и кеносису [с. 118–119], и аскетизму… присущи качества мазохизма». Мол, «кеносис — это обозначение религиозного мазохизма». Ибо «психиатр сразу определил бы кеносис как мазохизм». Получается, что вообще «в русской литературе все истинно христианские характеры — это моральные мазохисты.» Так что «познавший» там, на Дальнем Западе, все это автор «исследования» о «рабской душе России» рекомендует «подвергнуть вообще русское православие психоанализу — даже помимо мазохизма» {1107}.
По такому подходу — осуждать по-психиатрически неприемлемые деяния и даже ожидания (тем острее, чем больше они отличаются от собственных) — выходит, что и «русская апокалиптика [т. е. хилиазм] показывает знаменательное сходство с… разговорами — о фатальном, роковом конце всего — мазохистских пациентов у психиатров» {1108}.
А то, что русские крестьянские поэты и символисты мечтали о революции как о конце истории, было «открыто» в Америке, собственно, не раньше двух десятилетия после появления этой моей книги в Германии {1109} [130]. Но и тогда публиковать такие вещи стало приемлемо, объясняя их психопатологически. Ибо по царящим в США традициям «просвещенничества», для людей в своем уме хилиазм никак не мог представляться серьезным политическим фактором. Ведь явление это очень «иррациональное», да еще к тому же «эмоциональное». А эмоциональность и пафос публично выражать в англосаксонском окружении никак не полагается.
Поэтому, хотя «анализировать» тексты, например, Достоевского или Герцена в американской науке вполне допустимо, но цитировать из них то, что считается «мазохизмом», «эмоциональным» («риторику») не подобает. Это в полной мере относится и к таким текстам, как «Мечта» Хомякова (см. с. 167 данного издания): подобную эмоциональность, пафос и «риторику» можно анализировать, но не цитировать. Конечно, цензура в царской России тоже не приходила в восторг от некоторых текстов Хомякова. Однако она все же пропускала их, вставляя лишь пояснение, что «уклон» Хомякова обусловлен тем, что он не получил богословского образования…
Я впервые узнал о том, что не полагается цитировать «тенденциозные», «риторические» изречения авторов Востока о Западе, из решения оставшегося мне неизвестным «эксперта» издательства Чикагского университета, потребовавшего «тщательно написать заново» весь мой текст («thorough rewrite»). Конечно, это не цензура самодержавия — та цензура не была анонимной. А чикагский университет даже в дни Маккарти славился своим либерализмом. Именно в этом университете в 1953 г. председатель комитета по истории культуры по-отечески уведомил автора данной книги, что если он желает работать в США, то ему следует приспособиться и писать в соответствии с общепринятыми нормами — другое дело, конечно, если он желает жить в какой-нибудь другой стране.
Так и вышло на самом деле. Единственной постоянной работой, которую удалось заполучить автору этой книги, стала работа в Bishop College, негритянском колледже далеко на юге страны, в Техасе (1952–1956). Эта должность практически не давала возможности участвовать в дискуссиях на научных конференциях, поскольку для предоставления слова необходимо было указывать свое место службы (institutional affiliation). В ответ на упоминание моего места службы обычно следовало либо презрительное молчание, либо снисходительная улыбка. Мои чикагские коллеги считали подобную участь чуть ли не хуже самой смерти [131].
Дело в том, что иерархия американских университетов выстраивается по географическому принципу: университеты, расположенные на восточном побережье (East Coast), считаются престижнее западных (West Coast). Западное побережье, в свою очередь, престижнее, чем средний запад (Middle West). Но они все вместе презирают учебные заведения, расположенные в глубинке юга (Deep South). Таким образом, работа именно на юге, да еще и в негритянском колледже определяла незавидное положение автора этой книги в американской научной иерархии.
Подчеркиваю — в американской, но не в международной. Когда первый же немецкий издатель, увидевший рукопись данной книги, опубликовал ее, автор сразу же был приглашен в Германию. (В то время, в 1956 г., в Германии еще живы были представители неоромантического поколения 1920-х гг., эпохи немецкого культа Достоевского, когда процветало так называемое «прусское славянофильство»), В основном именно благодаря изданию данной книги я получил приглашение на кафедру Гейдельбергского университета.
Она вызвала широкий резонанс. Научные журналы и газеты девяти стран опубликовали не менее сорока отзывов на нее. Мало кто обратил внимание (несмотря на предисловие) на то, что односторонность книги обусловлена представлениями Бердяева о «русской идее» [132]. Подавляющее большинство рецензий было положительно, но, пожалуй интереснее были те немногие, где книга оценивалась отрицательно. Так, признанный американский экономист-«советолог» Гершенкрон объявил автора отчасти наивным, а отчасти запутавшимся человеком (confused). А товарищ Пашуто в СССР обрушился на меня из-за приведения цитат (впрочем, давно известных) о связях между революционными идеями и видением о граде Китеже. Хотя никто не винил за это ни Короленко, ни Клюева, ни Бердяева, Пашуто причислил меня к «остфоршерам», т. е. к аденауэровским «руссоведам».