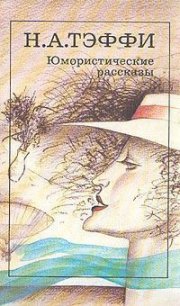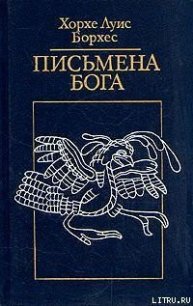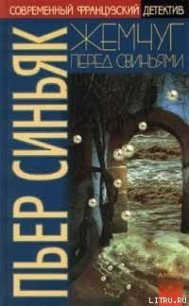Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .txt, .fb2) 📗
У Достоевского она занимает центральное место. Но к самоэкзорцизму у него стремится не столько детство, сколько отрочество. По правде говоря, стыд — это груз наследства, которое подросток (а именно так называется важнейшая книга Достоевского) не перестает оплакивать. Но стыд — это еще и избыток рефлексии, на которую из-за этого обречен герой. «Надо мной смеялись все и всегда, — восклицает смешной человек. — Но не знали они и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я…» С тех пор (особенно в «Братьях Карамазовых») то и дело слышится: «Какой стыд! Просто стыд!» Ведь пока стыд громко заявляет о себе, тайна, как мячик, перелетает от персонажа к персонажу. И от бессилия остается только впасть в негодование или в бешенство.
Прозрачный человек Жан-Жака и подпольный человек Федора Михайловича a priori достаточно далеки друг от друга. Идеал прозрачности, идеал искреннего человека, который мог бы говорить обо всем без утайки, — это утопия эпохи Просвещения. Подпольный человек, пресмыкающийся человек («Подполье, — замечает Рене Жирар, — это утопание, увязание в Другом») тесно связан с исторической судьбой русской интеллигенции в XIX веке. Несмотря на различный контекст, и Руссо, и Достоевский пишут в состоянии параноидальной одержимости унижением. На угрозу со стороны внешнего мира оба отвечают мазохизмом. Один — незаконный ребенок, деклассированный и лишившийся дома сирота, неудачник с манией величия; другой — вечный холостяк, не слишком отесанный подросток, маленький бюрократ (но одновременно демон, игралище бесов). У них есть общий для обоих стыд — стыд безвольного человека, раздавленного властью собственной гордыни, умаленного самой своей чрезмерностью. У обоих стыд вызывает сладострастие. Обязанные своим стыдом преступлению отцов, они освобождаются от него путем парадоксального наслаждения. Руссо (после признания о том, как он обнаружил, какое удовольствие доставляет ему порка): «…Я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности…»[19] Достоевский, «Бесы»: «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение».
У Руссо и Достоевского литература становится как бы апологией первородного стыда — настолько, что становится возможным говорить о героизме стыда. Достоевский, «Записки из подполья»: «…Обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться, следственно, можно грязниться». Это значит, что все пережитые маленькие стыдики ведут к великому стыду, к глубинному стыду — к стыду быть человеком. Мысль Достоевского рассматривает и эту связь: «Мы даже и человеками-то быть тяготимся, — человеками с настоящим, собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками».
* * *
Конечно, есть и писатели, которые в нежном возрасте отвернулись от того, что обычно принято называть стыдом. В литературе каждый проявляет свою стыдливость, как может, в том числе и посредством напускной развязности. Положение в обществе, большее или меньшее отвращение к своему фамильному, общественному или национальному происхождению ничего не значат для всеобъемлющего разделения на чемпионов по откровенности и чемпионов по скрытности. Тем не менее отметим следующее: после Руссо, после Достоевского и после Фрейда фантасмагория стыда — больная совесть писателя, но одновременно своеобразная форма его трезвомыслия — нередко оказывается в центре литературного творчества. Стыд терроризирует синтаксис исповедальных книг, он блуждает в их пунктуации. Под властью взгляда другого его отрицательный принцип проходит как некая неразгадываемая тайна через произведения Конрада, Готорна и Кафки, но также Поуиса, Гомбровича, Мишо, Жене, Лейриса, Беккета, Бассани, Рушди, Дюрас, Филипа Рота, Анни Эрно, Мари Ндиай, Мишеля дель Кастильо, Мисимы, Осаму Дадзая, Кутзее, да и многих других — независимо от того, изображают ли они его в явном виде, подобно глазу циклона, или же это чувство просачивается сквозь ткань их произведений, как неодолимое влечение.
Что общего между всеми этими писателями? Может быть, неизбежное, глобальное столкновение с катастрофой Истории? Или жизнь, пришедшаяся на эпоху, когда политическое искушение было особенно сильным («Самой малости не хватило, — признавался Гомбрович, — чтобы я стал коммунистом»), — и, чтобы ему противостоять, им пришлось изобретать новые формы литературного нарциссизма, если угодно, нарциссизма сопротивления тому, что Батай назвал «системами исторического присвоения»?
Могут сказать, что по-настоящему этих униженных детей не объединяет ничто — даже если складывается впечатление, что они связаны общими тайнами мира, который их окружает, и Истории, которая проходит сквозь них, даже если они получили одно и то же литературное наследство. По образу и подобию Достоевского, который «стыдился быть русским, стыдился быть сыном своего отца, стыдился быть Федором Михайловичем Достоевским» (Рене Жирар) и не мог ни к чему прилепиться, писатель стыда — это апатрид, heimatlos[20], сирота, блудный сын, враг семьи, дезертир, одиночка, писатель разрыва. Именно поэтому везде — не исключая и пространства литературы — он чувствует себя чужим, стремясь наслаждаться в отдалении от изящной словесности: «Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе, — пишет Достоевский в начале „Подростка“. — […] Я — не литератор, литератором быть не хочу, и ташить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью».
Для Европы можно даже указать изначальное время этого брака между стыдом и литературой. Конечно же оно неотделимо от того момента, когда благодаря Руссо было изобретено то, что впоследствии назовут автобиографией (момента, продолженного и углубленного особенно в творчестве Лейриса); того момента, когда индивид обнажает свои слабости и свое бессилие, когда он принимает в расчет опасность языка: того момента, когда писатель, извлекая максимум из давнего уже урока, выжимая из него все соки, словно бы говорит нам: это больше, чем книга, это мое тело, мой обнаженный опыт, который текст разоблачает и развращает.
С тех пор спираль обнажения сделалась неотвратимой. Не следовало начинать говорить о чем бы то ни было личном. Не следовало придавать такой размах этому эмоциональному порыву, который, как вполне можно было предугадать, не будучи a priori особенно обольстительным, тем не менее удачно вошел в моду на литературных дефиле — наряжаясь и любезничая, прихорашиваясь и со вкусом гримируясь.
Тем более что внешний декор все больше и больше поддавался такого рода разоблачению: ощущение утраты ценностей словно бы сопутствовало ситуации, мало-помалу включившей в себя самого писателя и всецело зависящей от непрерывно менявшегося imago[21] литературы. Доминик де Ру пишет о Гомбровиче: «Никогда еще бездонная нищета бессилия положения литературы не обнажалась с такой страстью, с такой отточенной элегантностью». Ното, что верно по отношению к Гомбровичу, применимо и к некоторым его выдающимся современникам. XX век, ко всему прочему, был еще и тем историческим моментом, когда осыпалась золотая легенда литературы; когда слова «литература», «писатель», «литераторы» оказались унижены, демифологизированы и десакрализованы; когда свергнутый писатель испытал отвращение от соприкосновения со своими собратьями, именуя их «жанделетрами» (Беккет) или «тщеславными орнаментальщиками» (Мишо); когда Бернанос обрел право, как он с горячностью утверждал, «вместо „литератор“ говорить себе „скотник“», что казалось ему куда предпочтительнее; когда австрийский писатель Карл Краус провозгласил: «Почему человек пишет? Потому что у него не хватает характера от этого удержаться»; когда Селин заявил: «Мне всегда казалось неприличным само это слово: писать!..»[22]; когда Лейрис признался, что стыдится своего «литературного персонажа», все более чувствуя его «отвратительность»; когда Чезаре Павезе в качестве последнего «прости» произнес, прежде чем покончить с собой: «Довольно слов. Дело. Я никогда больше не буду писать»; когда даже сами почести могли порой вызвать у лауреата чувство вины (вспомним Жана Каррьера, получившего Гонкуровскую премию за роман «Ястреб из Мае», не понимавшего, «почему так много людей занято поисками своего собственного памятника», сожалевшего о фальшивых почестях и о том, что он воспринял как сделку с совестью: «Каждый раз, как я перечитывал „Литературу в желудке“, меня охватывал стыд»).