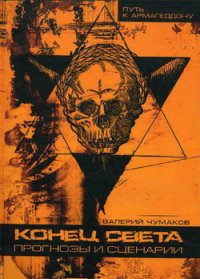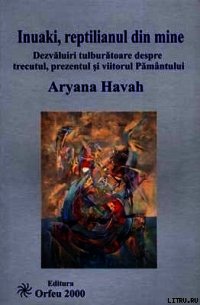Тайны, догадки, прозрения (Из истории физиологии) - Яновская Минионна Исламовна (бесплатные версии книг TXT) 📗
«Задачей анализа было возможно лучше ознакомиться с какой-нибудь изолированной частью; это было его законным долгом; он определял отношение этой части ко всем возможным явлениям природы… Но физиология органов была порядочно-таки запутана…»
Никакой орган, взятый отдельно от материнской почвы, не может вести себя нормально. Не живя, а существуя в искусственных условиях, вне естественного соседства со своими собратьями, он лишен привычных взаимодействий. Какая уж тут жизнь! Ведь приспосабливаться приходится не к тому, что существует на самом деле в природе, а к тому, что искусственно навязано экспериментатором, как бы близко ни было это навязанное к естественному. Пусть та же слюнная железа — что может она рассказать, если ее поместить в пробирку с питательной средой? Ровным счетом ничего. Та же железа на своем привычном месте, как звено пищеварительного тракта собаки, рассказала все.
Более, чем все — то, что узнали, превосходило все ожидания.
Множество исследований проводили на нерасчлененных животных. Только они были истерзанными, так что находились не в физиологическом, а в патологическом состоянии. Соответственно и все функции нарушались во время тяжких операций: пока доберется экспериментатор до нужного органа — сколько травм нанесет он животному, сколько связей нарушит! Разрезы, потеря крови, охлаждение, наконец, бессознательное состояние под наркозом — что общего с существованием в природе? Ничего от обычной жизнедеятельности не оставалось, и невозможно было узнать: как, когда, при каких условиях «сцепляются» отдельные части живого организма, каковы их взаимоотношения, взаимовыручка, каково поведение.
Со временем метод вивисекции, накопивший все-таки немало знаний, утратил свой смысл. Главное стремление — познать физиологию головного мозга — не могло с его помощью реализоваться. Ведь если можно еще как-то наблюдать «поведение» отдельного органа, то изъятие частей мозга или даже всего мозга целиком могло дополнить только анатомические сведения о нем. Деятельность мозга никак не могла быть познана. Изучение высшей нервной деятельности зашло в тупик; пробить стену можно было только одним способом: найти иные, совершенно не сходные с прежними принципы.
Что и сделал Павлов.
Прежде всего он придумал «хирургический метод» и определил его как «прием физиологического мышления». Потому что этот метод позволял постоянно наблюдать за нормальными проявлениями и всего организма собаки и какого-либо ее органа. Нет, это была не та хирургия, которая забивала животное за один опыт.
Это была хирургия бережная, щадящая; животное после операции не только оставалось живым, оно было практически здоровым — в его организм прорезалось окошечко; через окошечко можно было наблюдать все, что требовалось именно физиологу — нормальную деятельность. А оперированная собака превращалась в «ходячий эксперимент».
И вот она — собака — в станке; здоровая собака, только на брюхе у нее желудочная фистула.
Эта-то собака здорова, но не сразу так случилось: десятки раз отрабатывали операцию, чтобы собаки не гибли, чтобы желудочный сок не разъедал раны, чтобы он изливался в отверстие чистый, не смешанный с пищей; чтобы от потери сока не размягчались кости, чтобы… Много их было, этих «чтобы», не вдруг далась в руки новая методика. Но Павлов хоть и был нетерпелив по характеру, в работе проявлял адское терпение — думал, пробовал, переделывал. Пока не добился своего: собаки с фистулами жили долго и, пока жили, оставались нормальными животными, вполне пригодными для физиологических наблюдений.
Вот другая собака сидит на столе, задумчиво глядя куда-то вдаль. Обыкновенная дворняга, хотя похоже, что кто-то из ее предков был догом. На щеке у нее небольшая дырка — тоже фистула, на этот раз — слюнной железы.
Разумеется, слюна вытекала из фистулы, когда собака ела; вытекала и тогда, когда она только видела или чуяла пищу. Но — вот сюрприз! — животное «пускало слюнки» на шаги служителя — кормильца! Это что за явление? Не «плёвая» же железка, в самом деле, слышит шаги… Как и всякий звук, они раздражают слуховой нерв, и по нему бегут сигналы в мозг. Но почему же мозг на сей раз дает приказ: пускай слюнки?
Человеческие шаги — и текущая изо рта слюна. Сколько сотен или тысяч раз могли видеть такое экспериментаторы. Они и видели, но не замечали. А Павлов заметил — поистине, случай подстерегает того, кто его ждет!
Сработала привычка остро наблюдать факты и логически объяснять их. Павлов так расшифровал влияние шагов служителя на аппетит собаки: дело не в самих шагах, дело в том, что они всегда связаны с едой, оттого и приобретают свойство вызывать слюну… до тех пор, пока служитель кормит; если же подавать кормежку иным путем, шаги будут в скором времени напрочь забыты — разорвется их связь с пищей. Стало быть, связь эта — временная.
Временная связь — не в слюнной железе образованная: в головном мозге. Но тогда и любой другой звук, если за ним будет следовать еда, вызовет такую же связь.
Что было дальше, вы, наверно, помните: «плёвая» железка стала орудием одного из самых значительных открытий в физиологии. Собаки исправно пускали слюнки и на звук метронома, и на звучание колокольчика, и на свет; они легко отличали белый цвет от красного, и — все это при одном непременном условии — вслед за звуком или светом должна была следовать кормежка. Условия «учитываются» мозгом; значит, ответная реакция, получившая название условного рефлекса, — явление психическое.
Так началось в науке долгожданное смыкание физиологического с психическим. И возможность изучения психической деятельности физиологическими методами.
Между прочим, и врожденные реакции, и временные связи были известны и до Павлова. Слово «разум» не раз фигурировало в работах ученых, и никто из них не возражал, что разум находится в коре больших полушарий. Возражения шли по другой линии: считалось, что разум — нечто само по себе существующее — немыслимо изучать средствами физиологии.
Один Сеченов утверждал иное, но ведь только утверждал — не доказывал опытом.
Тот факт, что разум, коль скоро он находится в мозге, в сфере материальной, сам является материальным — этот факт и решил доказать Павлов.
С условными рефлексами он мог уже делать все, что хотел. По его приказу они появлялись, по его приказу и угасали; правда, не очень охотно — забывать было труднее, чем осваивать. Временные связи создавались не только на пищу — даже на боль. Врожденные реакции безотказно отвечали на сигналы из внешнего мира, будь то метроном, органная труба, прикосновение к коже, один только вид шприца, которым прежде пользовались для инъекций.
Но вот у собаки вырезали кору мозга. Куда девались условные рефлексы? Метрономы, лампочки, звонки, шприцы совершенно утратили свое значение — собакам было наплевать на них, даже не наплевать, потому что слюна не текла… Ни одну связь не удавалось восстановить у животного, лишенного коры больших полушарий — той самой коры, где существует разум.
Животные продолжали есть, пить, выполнять естественные потребности, чувствовать боль и остро на нее реагировать — все инстинкты, все врожденные (безусловные) рефлексы сохранились. Потому что сохранилось вместилище их — подкорка. Вместилище условных рефлексов — кора; утратив ее, животное утратило и разум, оно больше не способно ничему обучаться, оно «позабыло» весь свой жизненный опыт, а с ним и возможность изменять поведение в зависимости от изменений жизненных условий.
Остались одни инстинкты. Казалось бы, такие могучие инстинкты, так трудно оборимые. Жесткие, накопленные за время существования всего биологического вида, они становятся слепыми без контроля разума. Да и этому контролю, как мы знаем из жизненного опыта, подчиняются далеко не всегда…
«Великий контролер» не просто «существует» в коре головного мозга, он является функцией коры, физиологически объяснимой и поддающейся изучению.
И далеко еще не изученной…
Доказательства Павлова держались на «трех китах»: он мог создавать условные рефлексы, мог погасить их и мог объяснить.