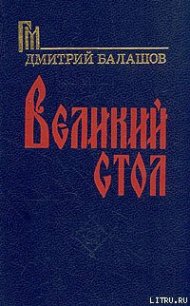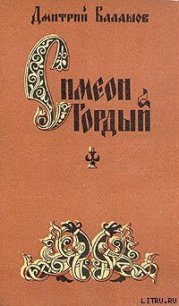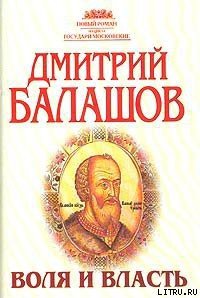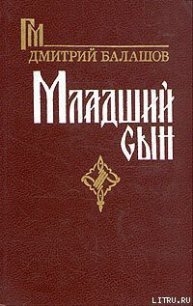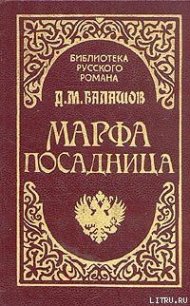Бремя власти - Балашов Дмитрий Михайлович (лучшие книги без регистрации .TXT) 📗
– А ныне, вишь, и я московскому князю служу, и ты сидишь у меня гостем. Эко! – Помедлил, подумал: – Ну, кто старую котору помянет, тому глаз вон!
Отнесся к Мишуку чарою, выпил. Отпил неволею и Мишук. И баять боле стало не о чем. Было, быльем поросло. «Может, так и нать? – думал он уже на дворе, садясь на коня. – Не век же которовать друг с другом! Вси русичи, и с единого места вси! Земляки!» А в чем-то чуялась старая обида, не проходила. Так и не понял – в чем? Может, приди Акинфич к нему в гости, да приди как равный к равному, и не было бы никакой обиды у Мишука. Принял бы, угостил. Повспоминали прошлое. А так – словно и даром отец боронил Переслав от Акинфичей! Вот они воротились – и снова бояре, а он, Мишук, все тот же простой кметь, и не боле какого холопа ближнего у того же Ивана Акинфича! Може, и прав Никита, что так жаждет выбиться куда повыше… Сумеет ли только? Тут ведь и талану недостанет, иное надобно! Злость, хватка… То, чего не было, никогда не было в нем самом, в Мишуке. На уклоне лет можно и признати такое.
Мысли эти, впрочем, как пришли, так и ушли. Не простое дело сбивать мужицкий обоз! К весне каждый жмется, ладит ухорониться за спину соседа. Коня заморить – пашню не взорать. Ведомое дело, весна! Едва-едва собрал Мишук потребное число мужиков, зато и для себя доброе дело сотворил: выискал знатных плотников в свою ватагу и уже радовал тому, как весело пойдут у него дела на Москве.
Свершили городовое дело, принялись за пашню. И только-только Мишук отсеялся, вновь подоспела служба государева. Боярин, убедясь в толковой рачительности Мишука, послал его старшим в Мячково: ломать камень для нового устроенья княжеского. Калита задумал класть каменную церкву у Святого богоявления под Москвой.
Глава 74
Иван новое церковное строение затеивал, как и все заводы свои, не без дальнего загляду. Крестник Ивана, Алексий, по-прежнему числил себя иноком обители Богоявления, меж тем в Царьград уже ушла неведомо какая по счету и при богатых поминках грамота с согласною просьбою великого князя владимирского Ивана Даниловича и митрополита русского Феогноста поставить инока Алексия на наместничество при митрополите, понеже и поелику…
Поминки и настойчивость князя должны были совершить свое дело в оскудевающей и потрясаемой смутами столице угасавшей Византийской империи. Каменная же церковь в монастыре Богоявления должна была придать величия обители, из коей мыслили князь с митрополитом извести наместника, а значит, в грядущем ближайшего заместителя митрополичьего престола. В дали дальней начинало брезжить для Бяконтова первенца то, о чем не догадывал, не мог и мечтать его покойный отец.
Сам Алексий не придавал заботам крестного большого значения. В Цареграде могут и десять раз решить и так и эдак, посему обольщать себя посулами не стоило. Хотя внутренне неволею он уже готовил себя мысленно и духовно к руковожению русскою церковью. Не мог не думать о том и даже прикидывал иногда, что и как надобно ему доделать и переделать, когда власть от Феогноста перейдет к нему, – ежели перейдет, конечно! Святой Петр (канонизации прежнего митрополита они наконец добились), святой Петр тоже приуготовил себе заместителя. А прислали Феогноста. И ныне мочно подумать, что и лучше содеялось с этим умным и неробким греком: так осильнела и побогатела при нем русская церковь, так укрепило и возросло церковное господство владимирской земли!
У себя в монастыре Алексий бывал наездами. Ныне прибыл из-под Владимира по делу, затеянному князем. Ради каменной церкви монастырской – наружно, а в тайности – ради дел наместничества, в чем, по слухам, Царьград готовился наконец уступить.
Иван, уважая сан крестника и дабы облегчить неприлюдные свои с ним встречи, выстроил в Кремнике небольшое подворье Богоявленского монастыря, куда мог попадать из княжеских теремов по дворам и крытым переходам почти что отай, неведомо для лишних глаз. Многое, ох сколь многое приходило творить вот так, отай, хотя бы и потому, что подворье ордынское – ухо и око царево – стояло тут же, в Кремнике, невдали от великокняжеских теремов.
Четверо людей собрались в вышней горнице тесноватой, хоть и высокой, на четыре жила рубленой хоромины, отколе сквозь крохотные оконца проглядывали по-за стеною крытые соломой и дранью кровли Занеглименья и куда глухо доносило упорный перестук топоров, стон и звяк металла, буханье, ржанье и гомон. Город жил, рос, ковал, торговал и строил, воздвигая все новые и новые, белеющие свежим лесом хоромины, и уже боярские дворы выплескивало за стены Кремника, на торговый и ремественный Подол, а кузни отодвигались подале, на тверскую дорогу.
Четыре человека сидят на лавках у простого тесаного стола, застланного суровою, на восемь подножек тканого, узорного холста скатертью. На тесаных стенах покоя голо, зато дивно богат иконостас в красном углу, где глаз знатока поразили бы сразу большие и малые образа византийских, суздальских, тверских и новогородских писем, пред коими на серебряных цепях теплилась дорогая лампада из синего иноземного стекла, привезенная из земли веницейской.
В горнице, по зимам согреваемой горячим воздухом снизу, чисто и сухо. Теплый ветерок вливает в отодвинутые оконницы. Четыре человека за столом разоблачились от верхнего платья. Двое из них сидят в светлых подрясниках, один в палевом, другой в тускло-лиловом. У того, что в палевом, черноволосого, тронутого по вискам и по середине волнистой бороды сединою, на груди золотой крест – знак высшей власти церковной. Двое других тоже в домашнем облачении. Один – молодой, русокудрый – в шелковом долгом распашном сарафане сверх белой рубахи с вышитою золотом грудью. Другой – согбенный, но со все еще пышною полуседою гривой вьющихся волос и пронзительным, слегка как бы вогнутым ликом в паутине мелких морщин – одет в домашний легкий серополотняный зипун с твердыми, шитыми серебром наручами, отделанный по краю одною лишь тонкою крученою темно-синею нитью.
Четыре человека в горничном покое представляют собою ныне высшую мирскую и духовную власть Владимирской Руси. Это Калита с сыном Симеоном и митрополит Феогност с Алексием, который давно уже тайно назнаменован наместником митрополичьим, однако въяве не имеет еще ни сана, ни звания, возносящего его над прочими. И об этом сугубо отай и идет между ними разговор.
Разговор неспешный, перемежаемый сдержанною, хотя и изысканною трапезой. На столе, на серебряных блюдах и в поливных узорных ордынских чашах, были и нарезанная ломтями севрюга, и пирог с гречневой кашей и снетками, и алая, с жемчужным отливом, семга, и икра, и засахаренные фрукты, из восточных земель привезенные, и печения, и греческие орехи, и мед, и малиновый квас, и темно-багряное цареградское вино. Но ели мало, токмо отведывали, пили и того меньше. Говорили неспешно, взвешивая каждое слово, и говорили в основном старшие – князь и митрополит. Но молвь велась без лукавства, без того неверия взаимного, с коим глаголют послы земель иноземных. Здесь говорили друг с другом с прямою искренностью соучастников, а взвешивали слова потому, что оба, и князь Иван и Феогност, знали цену слова и молвили токмо самонужнейшее и токмо избранными для мысли своей словесами.
Феогност давно уже утратил свое прежнее недоверчивое презрение к великому князю владимирскому. Давно оброс добром, волостьми и кормами, давно повязал себя многоразличными связями здесь, на владимирской земле, крестил и венчал, рукополагал и ставил. А там, в Цареграде, творилось такое, что об ином соромно было и сказывать. И уже неволею начинал он ощущать своею русскую землю – землю служения своего. И в этой русской земле, понимал он теперь не менее князя Ивана, потребен свой митрополит, угодный и князю и наследнику княжому, мыслящий и живущий всеми нуждами и всеми болями этой земли. Короче говоря, и он тоже понимал, что лучшего наследника себе, помимо Алексия, ему не найти. А раз так, надлежало совокупною волей требовать у патриаршего престола поставления Алексия на наместничество. Сперва на наместничество…