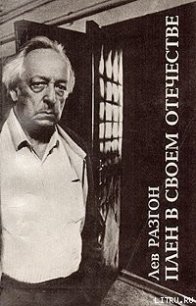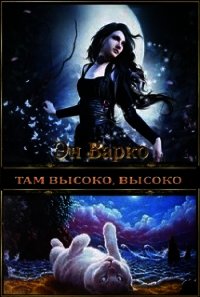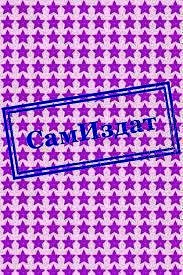Избранное. Логика мифа - Голосовкер Яков Эммануилович (книги бесплатно читать без .TXT) 📗
Утвердить государство возвышенных духом, где как-то чудно стоят все за всех, герою романа Гипериону не удалось. Осталось одно: единственный смысл и реальность жизни признать за творческим воображением поэта, переливающимся в бесконечность музыкальных мелоритмических и в то же время смысловых словесных форм. Это значит: разрешать диссонансы в жизни в ассонансы стихов. Это значит — понять искусство, как исцеление от страдания. Но это еще далеко не значит оказаться только «грил-ленфенгером» — ловцом кузнечиков: злое слово, которым Гёте дискредитировал романтиков.
Гиперион не знает, что такое «идея», что такое «материя». Он знает, что такое «живое», и идеал для него есть «живое»: оно теплое, плодоносно-цветущее, излучающееся. Идеал дышит. Весь мир дышит. Эфир — дыхание мира. И миф, им рождаемый об отце-свете-эфире, о земле-матери, — есть продуманное ощущение мира и природы. Те «боги», та «божественная природа», в которую окунулся Гиперион, откуда гением стихий вырывается Эмпедокл — герой его трагедии, — не только стилевое выражение романтика, не только color verbalis его язычества. Для Гёльдерлина «божественность» означает стихийный гениалитет художника. Для него природа гениальна, ее силы — всемогущие гении. Тот же гений, что в нем, в Гиперионе-Гёльдерлине, тот же и в природе. Но кроме слова «природа», есть еще слово «культура» и о культуре Гёльдерлин и сказал свое слово. Его формула: человек ускоряет движение мира. Роль ускорения играет в культуре для Гёльдерлина идеализация. Он пишет: «Побуждать жизнь, ускорять вечный ход совершенствования природы, еще преусовершенствовать его и идеализировать то, что видишь перед собой — это неизменно своеобразнейший и отличительнейший порыв человека, и все его искусство и дела, и ошибки, и страдания возникают из этого порыва». Теперь понятен смысл Гёльдерлинова культа гениев и героев: это они, гении и герои, ускоряют движение мира в направлении к идеалу, это они делают жизнь прекраснее, помогая искусством природе.
Культ героев, как и культ гениев, культ возвышенного, культ дружбы — все это цвета спектра романтики, вершинные точки немецкой «философии свободы». Героика — всегда попытка преодолеть пессимизм преображающим смыслом подвига, а следовательно, и жертвы. И здесь Гёльдерлин серьезен. Воскрешая в Гиперионе культ эллинского героя, он мечтает о действительном культе героя, как о грядущей всечеловеческой «религии», которая восторжествует над историческим церковным христианством. Герой эллинского мифа у него — действительный образец жизненного поведения для европейского юношества. Если юноши дружат, они должны дружить как мифологические Диоскуры: так думают Гиперион и Алабанда.
Уже нежнейший образ романа «Гиперион», скорей цветок, чем женщина, — Диотима, возлюбленная Гипериона, героизируется до Жанны д'Арк, до музы нового Ренессанса, чтобы ей, нежной, умереть от перенапряжения чувства и одновременно от невозможности ей, героине, жить вне героического мира, ибо дело Гипериона сокрушено. То, что Диотима умерла от чахотки или от сердечной болезни — вне плана книги. И той же мужественной скорбью и восторгом героини древней трагедии полна Пантея в трагедии «Смерть Эмпедокла». И сам Гёльдерлин осознавал себя таким же гением-героем. Но между природой и искусством стоял быт. Бытом с его нищетой разрывалась воображаемая гармония природы и культуры, в быту разрывался сам Гёльдерлин «ненавистью и любовью» в тоске по Диотиме — по Сузане Гонтар: это его же слова! И чем сильнее ощущение двойного разрыва, тем неистребимее потребность его преодолеть.
Было мгновение в жизни Гёльдерлина, когда он выкрикнул: «Если царство тьмы ворвется насильно, то надо бросить под стол перо и идти туда, где нужна в нас велика». А затем признание: «Я враг эгоизма, деспотизма, человеконенавистничества». Очевидно, бросив перо под стол, с этими врагами думал он вступить в борьбу: ибо, по Гёльдерлину, право на подвиг принадлежит человеку ради осуществления гармонии культуры и природы. И еще: «Я люблю грядущие века, поколения. Я люблю в искусстве человеческом человека — предрасположение к высокому и прекрасному».
Переживая жизнь в себе, без разряда во вне, без свершения, без дела-подвига Гёльдерлин не мог расстаться ни с чем из переживаемого его сердцем и умом. Воображаемая гармония природы, общества, искусства стала его идефиксом. Он одержим абсолютом. Он ждет Диотимы, возрождения вольной Германии, высших людей. Мечта о славе поэта-мыслителя, воспитателя человечества и своего народа жжет его сознание. Вечное напряжение, вечное потрясение. Он упорно повторяет все те же мысли, меняя только формы поэтического и философского высказывания. Но метаморфозы его высказываний не превращались в дело жизни. Его Диотима не пришла к поэту: она умерла. Все связи с обществом рвутся. Германия не возрождалась. Высший человек не возникал, — и сознание Гёльдерлина не вынесло.
Упорядочить отрывочные философские высказывания Гёльдерлина и построить из них гармоничное здание его эстетики и поэтики — дело весьма не простое уже в силу философско-ро-мантического стиля его письма и весьма отвлеченной терминологии, конкретность которой он ощущал и передавал музыкальным построением фразы или партитурой целого периода. О Гёльдерлине можно писать только изнутри его творчества, пользуясь теми понятиями, образами и тем словарем, который был свойствен самому Гёльдерлину. Иначе весь колорит его мировосприятия и изложения мыслей, все то, что он именовал «интимностью», были бы утрачены.
«Секрет интимного». Гёльдерлина всю жизнь мучил идеал «совершенной поэзии» и секрет поэтического воздействия. Отсюда неустанный поиск теоретического фундамента, как критерия совершенства, и поиск секрета поэзии, чтобы им овладеть. Его органическое мировосприятие требует гармонии и единства структуры и для вселенной, и для общества, и для поэзии — до словесного периода вплоть. Единство структуры, выявляясь в формах, протекая ритмом, не терпит обособленных, как монад, замкнутых в себе и для себя вещей и существований, как не терпит и их механической сцепки. Все, по Гёльдерлину, проникает друг друга, существует друг для друга, все взаимоинтимно. Поэтому достаточно понять принцип структуры словесного периода, чтобы понять принцип структуры вселенной и общества. Поэтому поэтика превращается у него в социологию, социология — в космологию, и все вместе получает смысл философской системы. Поэтому в творчестве Гёльдерлина нет ничего случайного: налицо всегда продуманность, всегда теоретический подход, принципиальное решение проблем формы. В этом и заключается для него единство ритма и смысла. Здесь он классик — эллин. И эллины — его учителя: Алкей, Софокл, Пиндар…
Структура периода у Гёльдерлина оригинальна. В нем каждая последующая часть отвечает началу, непрерывно углубляя данное вначале содержание. Нет отчетливого акме — высшей вершинной точки между протазисом и аподозисом — подъемом и спадом периода. Его период — это ряд параллельных предложений, обрисовывающих части предмета или моменты, причем из накопления и сочленения этих частей или моментов предмет постепенно вырисовывается цельно. Такой период классически целен и строг, иногда с напряженным эффектом в самом конце, где весь образ, картина, смысл выступают перед вами, как зрелище. Притом такой период чарующе мелодичен для уха, но для понимания, особенно в трудах теоретических, труден. По Гёльдерлину, период — организм; каждая часть его — самостоятельно целое, интимно связанное с большим целым. Каждая часть — орган организма. Период подобен водопаду, падающему ступенчато каскадами, причем зритель поставлен в такое положение, что ему при каждом шаге открывается только один спад, один каскад, и весь водопад увидит он только дойдя до последней ступени, до последнего каскада. Ритмическая структура периода не отлична от синтаксической [107].
Поэтическая форма Гёльдерлина есть смысл, включенный в ритм. Включение смысла в ритм есть творческий процесс поэтического воображения. И чем концентрированнее воображение, тем ритмосмысловая форма будет предметнее и выразительнее. Вот почему у Гёльдерлина так тесно, «интимно» связаны ритмомелодика и синтаксическая структура, как если бы ритмовая волна мелодики была носителем логического высказывания. Сближение ритмосмысловой мелодики стиха и жизни для Гёльдерлина не случайно: самоцветение природы протекало для Гёльдерлина мелодиями. Любой пейзаж из «Гипериона» — этому доказательство. Задача его поэзии — быть как сама природа, чтобы ритм, пробегающий игрой метаморфоз природы, перебегал ритмом поэтического творения. Поэтому и поражает у Гёльдерлина — особенно в его лирике — спонтанность ритма: то стремительность продвижения, то замедление. И тут же якобы спонтанность синтаксическая: пляска слов, водоворот предложений благодаря игре инверсиями. Инверсии группировкой слов дают динамику ритму и акцент смыслу: то ударно-смысловое слово ставится в конце предложения срывом в точку; то прилагательное оппозиционально поставлено к существительному для экспрессии впечатления, так что существительное служит якобы приложением. Вообще, обилие нюансирующих прилагательных, легких, почти несмысленных, подобия неких жизненных волн, поставленных эмоции ради, и скупость к устойчивым существительным; то анаколуф (недосказ — перескок), как убыстрение смысла; то анафора, как эмфатическое средство; то повторение важных по смыслу слов; то уплотненность выражений и обилие составных слов; то, в подражание греческим энклитикам и проклитикам, россыпь односложных точечных словечек: местоимений, наречий, союзов; то убегание от метафоры, то, наоборот, расцвет метафор, обычно вегетативных, а главное — смелое перемещение членов периода, и теплота, и чистота языка при внутренней строгости формы, доводящей порой стих, близкий к мелике эллинов, до точности прозы.