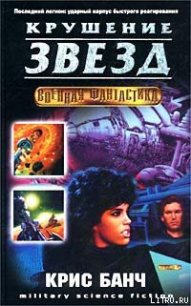«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - Кантор Владимир Карлович (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Использование вопреки разуму и здравому смыслу рациональной философии марксизма — вот чисто российское открытие, совершенное большевиками и подготовленное всеми мыслимыми и немыслимыми интуициями культуры. А когда разум спит или вообще отсутствует, на волю вырываются монстры. Это показал еще великий Гойя в страшном гротеске «Сон разума рождает чудовищ», под которым поставил такие слова: «Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ» [970]. Чудовища не заставили себя долго ждать и превратили историю страны с 1917 по 1953 г. в сплошной мартиролог. По — новому после разрушительной революции пришлось посмотреть на значение рацио в жизни и русским мыслителям — эмигрантам, перед которыми исторический опыт поставил проблему важности рационализма для православия. В статье «Ecce homo» (1937), говоря о «циническом попрании науки <…> во всех странах диктатуры», Г. П. Федотов писал: «Убедившись, что борьба с рационализмом в современности есть борьба с разумом, а не с его злоупотреблениями, позволительно спросить себя: какова должна быть религиозная оценка иррационализма? Если рационализм может быть ересью, то иррационализм всегда ею является. <…> Лишенный разума, anima rationalis схоластиков, человек перестает быть человеком, т. е. тем “умным”, “словесным” существом, каким называет его Греческая церковь» [971].
Но в самой России судьба рационалистических концепций оказалась плачевной. Уже среди первых книг, попавших в подготовленный Крупской индекс запрещенных, были и труды Платона, Канта, Декарта, моралиста Л. Толстого (статьи по этике и о патриотизме) и пр. И, разумеется, все работы христианских мыслителей.
Открытие же русской эмиграции, русских европейцев, открытие, важное как для России, так и для Запада, заключалось в утверждении, что происходит
9. Замена демократии идеократией
Заметим, что это был период крушения демократических структур по всей Европе. Держатся Скандинавия и Швейцария, но, сетовал Федотов (еще до гитлеровского переворота), Германия обречена, скоро рухнет Франция, и тогда только английская демократия в одиночку будет пытаться противостоять диктаторским и идеократическим режимам. А США слишком далеко. Возникло ощущение, что, быть может, никуда не деться, что такая эпоха наступает. И, быть может, она рано или поздно приведет к добру. К месту и не к месту поминали Гёте и фразу Мефистофеля, что он часть той силы, что вечно хочет зла, но творит лишь благо. Значит ли, иронизировал Степун, что «фактически творящий добро чёрт — становится добром? Очевидно, что нет, что он остается злом» [972]. И уже в 1928 г. твердо и убежденно писал: «Против становящегося ныне модным убеждения, будто всякий полосатый черт лучше облезлого, затхлого парламентаризма и всякая яркая идеократическая выдумка лучше и выше демократической идеи, необходима недвусмысленно откровенная защита буржуазных ценностей и добродетелей: самозаконной нравственности правового государства, демократического парламентаризма, социальной справедливости и т. д., и т. д.» [973].
А то, что в России утвердился сатанинский режим, он говорил и писал сразу после Октября. Сатанинский, т. е. антихристианский. Самое любопытное, однако, что многие деятели русской культуры из оставшихся на Родине, чтобы духовно выжить в стране «кромешников», попытались угадать в разбушевавшейся пугачевско — разбойной стихии космические и христианские ритмы. Блоку, как полагал Степун, это желание увидеть в черте добро внушило «более чем соблазнительный (курсив мой. — В. К.) образ красноармейцев — апостолов, невидимо предводительствуемых Христом» [974]. А соблазн — это прерогатива дьявола (на языке Блока — «томящегося жаждой дракона»), насмехающегося над божественной попыткой разумного устроения мира.
Характерно, что власть, организованная в духе кафкианских, оруэловских или булгаковских фантасмагорий, вела активную борьбу как с демократией, так и с христианством. Это не случайно, ибо хотя христианство содержит в себе мистику, оно отнюдь к ней не сводится. В седьмом «Философическом письме» Чаадаев пророчествовал: «Для совершенного возрождения, в согласии с разумом Откровения, нам не хватает еще какого‑то огромного испытания, какого‑то сильного искупления, вполне прочувствованного всем христианским миром и всеми испытанного, как великая физическая катастрофа, на всем пространстве мира» [975]. Ожидаемое наступило. Но Блок пытался вопреки разуму Откровения мистически прозревать за злом и катастрофами революции великую мистерию Богоявления. И это привело его к приятию большевизма, а потом к прозрению, трагическому молчанию и смерти.
Спасая идею христианской демократии, русские эмигранты в конечном счете выступали за спасение основ европейской (русской + западноевропейской) культуры, основанной, говоря словами Чаадаева, на «разуме Откровения».
Но почему актуализировался вопрос об оживлении христианской основы демократии? Существенно это стало потому, что демократия начала ХХ века утратила высшую санкцию на свое существование. Конечно, она есть продукт рациональной организации общества, учета всех сил, а диктатура, тоталитаризм по определению иррациональны, ибо живут вне закона. Конечно же, в борьбе с демократией тоталитаризм поневоле отрицает христианство, как несущее в себе элемент закона, договора (как Ветхий, так и Новый завет есть по существу договор с Богом). Но было нечто более важное, что тоталитарные режимы перехватили у демократии — контакт с высшими ценностями. Тот же Степун увидел: большевики и национал — социалисты прикоснулись к вечным истинам, о которых забыла демократия. «Большевики победили демократию потому, что в распоряжении демократии была всего только революционная программа, а у большевиков — миф о революции; потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а тревога большевиков — о последнем, о самом главном, о самом большом. Пусть они всего только наплевали в лицо вечности, они все‑таки с нею встретились, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей. Эта, самими большевиками естественно отрицаемая связь большевизма с верой и вечностью чувствуется во многих большевицких кощунствах и поношениях» [976].
В этом мире, чтобы отстоять демократические принципы, надо было переосмыслить их. Поэтому новоградцы (Степун, Федотов) говорили о неодемократии. «Принципиальное утверждение демократии, — писал Степун, — не означает, однако, для человека «Нового Града» безоговорочного признания всех форм демократического самоуправления. Новоградский человек не либерал. В эпохи, когда парламентарно — демократическая механика (защищаемая ныне в Германии страстнее всего непримиримым врагом демократии — Гитлером) начинает угрожать реальной свободе и подлинной демократии, человек «Нового Града» не задумается прибегнуть к силе и насилию. Как рыцарь свободы, он не будет назначать парламентских выборов, видя, что по ней уже стреляют» [977]. Что, конечно, не исключало сочувствия всем формам существующей демократии. Опасаясь Гитлера, предупреждая, что он может демократическим путем прийти к установлению диктатуры, они, не колеблясь ни минуты, выразили сочувствие побежденным демократам: «С самого начала нами были твердо заняты определенно демократические, вернее неодемократические позиции, — писал в 1933 г. после победы нацистов Степун. — Сокрушительный удар, нанесенный национал — социалистами германской социал — демократии, не может не ощущаться нами, как удар по нашему делу» [978].