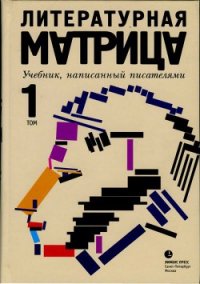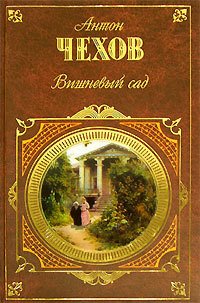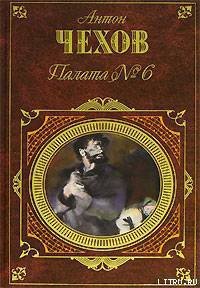Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные полные книги .txt) 📗
Опять-таки, как и по поводу отдельных пассажей «Теркина», возникает вопрос: как вообще это могло быть не просто напечатано, но одобрено? Тем более что в «Доме у дороги» содержится еще и эпизод, в котором советских военнопленных (казалось бы, та-буированная тема) гонят через русскую деревню на запад. Объяснить это можно лишь непониманием того факта, что «советские» мифы были постепенно вытеснены в общественном сознании «антисоветскими», столь же препятствующими пониманию произошедшей трагедии. Во-первых, страшный сюжет поэмы мог быть прочитан властью как нравоучительный: «вот что будет с твоей семьей, если ты любой ценой не остановишь врага»; во-вторых — как оправдательный: в связи с так же нарушающей международное право депортацией сопоставимого по численности немецкого населения (как полутора миллиона «своих» немцев в Сибирь и Казахстан, так и многомиллионного мирного населения из Судет, Силезии, Померании и Пруссии).
Если же не замыкаться на идеологическом прочтении поэмы, то прежде всего мы видим, что во внутренней эволюции Твардовского она — первый пример открыто трагического: именно в ней автор показывает свою способность к высокому без отказа от демократического (здесь так же, как в «Теркине», в кульминационных местах пробиваются фольклорные интонации) и, одновременно, лирического, что, с одной стороны, приблизило Твардовского к «великой русской поэтической традиции», а с другой — стало удалять от наметившихся параллельных европейским тенденций, когда «сюжет» оставлялся за прозой (или даже за кинематографом), а за поэзией оставлялось бессюжетное пространство конкретных слов и состояний, как это видно из немецкого примера (стихотворение «Опись солдатского имущества» Гюнтера Айха):
Можно сказать, что от «Теркина» до поэзии развалин [412] было всего несколько шагов, но советский поэт Твардовский пошел в другом направлении.
В принципе, еще один шаг Твардовский сделал. Об этом свидетельствует несколько коротких стихотворений (жанр для поэта второстепенный), которые, однако, были опубликованы лишь спустя более чем десятилетие, в 1958 году. Вообще говоря, немногочисленные и короткие стихи «в стол» (впрочем, изредка они все же публиковались) стали появляться еще в тридцатые; иногда писались они и в военное время. Остановимся на одном из них, восьмистишии «Послевоенная зима» (1946):
Этот следующий шаг можно увидеть в отказе от пафоса, хорошо заметном в этом тексте. Как раз по окончании войны со своими стихами выступили те, кто глядел на нее из окопов, а не был, как Твардовский и Симонов, военным корреспондентом. Их поэзия с опозданием в четверть века (и в одну войну) проходила школу экспрессионизма [413] (то, чего своевременно коснулся, пожалуй, лишь Эдуард Багрицкий). Ярчайший пример — Семен Гудзенко (1922–1953): «Бой был коротким, а потом / глушили водку ледяную, / и выковыривал ножом / из-под ногтей я кровь чужую». В том-то и было отличие в опыте между двумя воинами, что те, кто усвоил опыт первой войны, теперь видел, что появились некие предельные обстоятельства (геноцид, лагерь уничтожения, разрушение города авиацией, применение атомного оружия, голодная блокада), которые, как тогда стали говорить, явились «непознаваемой реальностью» (Адорно) и отняли моральное право на художественную экспрессию, — то есть их эстетизация (в том числе и антиэстетизация) кощунственна.
Скорее всего, Твардовский двинулся в эту сторону непреднамеренно, но в «Послевоенную зиму» экспрессионисты вставили бы свои подробности: для обезумевшей старухи и изуродованного нищего (с кровавыми впадинами вместо глаз? с изъязвленными обрубками вместо конечностей?) они нашли бы соответствующие краски. Для Твардовского же эти персонажи были как мать и отец, чью наготу сыновний долг велит прикрыть.
Некоторое количество лирических миниатюр того же «строгого стиля» появлялось и дальше, в 1950-е, 1960-е, но их поэтика все больше вступала в противоречие сама с собой, ибо под натиском осмысляемого опыта становилась все радикальнее и требовала, кроме отказа от пафоса, еще и отказа от внешних украшательств, прежде всего от «святая святых» русской поэтической ментальное — от рифмы и размера.
А изменившийся в 1960-е годы советский читатель требовал как раз противоположного: он уже не довольствовался брошенным в его сторону молчаливым взглядом, его перестала устраивать ситуация полунамеков и недоговаривания. Он искал в литературе того, что заменило бы ему отсутствующую в обществе дискуссию. В этой ситуации болезненно возвращающиеся к невыговариваемому историческому опыту стихи Твардовского все меньше отличались от общего безбрежного потока стихов о войне, все больше воспринимались частью государственной политики размахивания победой, как полицейской дубинкой.
В нанесении ударов этой дубинкой тогда появился и новый прием: государство стало оперировать почти в три раза большим числом погибших на войне (не семь, а двадцать миллионов). Это был сильный ход для оправдания в массовом сознании продолжающейся оккупации Восточной Европы, подавления периодически возникавших там освободительных движений. Появление новой цифры сопровождалось единственным комментарием: «из них не менее половины были мирные жители». Отсутствие каких-либо объяснений по поводу того, как появилась эта цифра и почему до этого фигурировала другая, не говоря уже о проблемах, могущих возникнуть при подсчете потерь («вторая эмиграция», использование советской территории для уничтожения западноевропейских евреев, включение или не включение в нее воевавших на стороне противника или против всех), создавало атмосферу некой священной тайны для лояльного большинства и всевозможные легенды среди растущей оппозиционной интеллигенции. Так до сих пор для либерального сознания цифра в семь миллионов — «преступная советская ложь», тогда как на самом деле это достаточно достоверная цифра исключительно боевых потерь (уравнивание их с потерями мирного населения было для героического сознания умалением подвига, а включение в их число сдавшихся в плен, а затем умерших в лагерях для военнопленных — просто кощунством). К слову, нужно заметить, что происшедшее в 1990-е годы увеличение цифры военных потерь еще на семь миллионов возникло из включения в это число потерь демографических, так называемой сверхсмертности, то есть превышения смертности на оккупированных территориях в военные годы над довоенным уровнем. (При этой же методике расчетов сверхсмертности можно заключить, что за восемь лет президентства Ельцина погибло три с половиной миллиона наших сограждан: поскольку в 1984–1991 годах в РСФСР умерло четырнадцать с половиной миллионов человек (естественный уровень смертности), а в 1992–1999 годах — восемнадцать миллионов, то разница цифр и определяет уровень сверхсмертности.)
412
Поэзия развалин — движение в немецкой поэзии конца 1940— начала 1950-х годов, сущность которого состояла в отказе от «поэтичности», то есть от «красоты», иначе говоря, — от эстетизации действительности, и от пафоса. — Прим. ред.
Экспрессионизм (фр. expressionisme, лат. expressio — «выражение, выразительность») — авангардистское течение в искусстве и литературе первых десятилетий XX в., для представителей которого характерно отношение к творчеству как к способу выражения эмоций, любовь к резким красочным диссонансам, деформации или стилизации форм, гротеску ради создания мощной выразительности художественного образа и отражения мировоззрения автора. — Прим. ред.
413
Экспрессионизм (фр. expressionisme, лат. expressio — «выражение, выразительность») — авангардистское течение в искусстве и литературе первых десятилетий XX в., для представителей которого характерно отношение к творчеству как к способу выражения эмоций, любовь к резким красочным диссонансам, деформации или стилизации форм, гротеску ради создания мощной выразительности художественного образа и отражения мировоззрения автора. — Прим. ред.