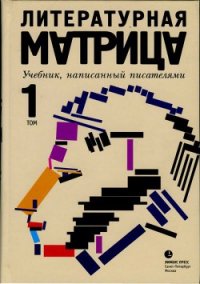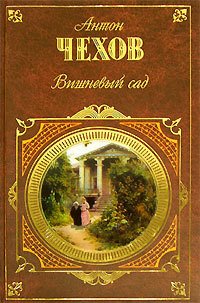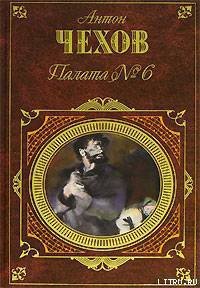Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные полные книги .txt) 📗
Но сейчас все иначе: стоит упомянуть первого из них — люди уважительно кивают. Что касается второго — наверное, лучше умолчать. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Мертвый не может возразить.
Зато живые могут возразить живым. Живые могут со всей ответственностью заявить, что всякий желающий что-либо узнать о сталинских лагерях первым делом должен взять в руки именно «Колымские рассказы». Все остальное мололо не читать. «Архипелаг» следует читать только после «Колымских рассказов» — как справочное пособие. «Ивана Денисовича», по-моему, можно не читать. Потому что никакого Ивана Денисовича не было и быть не могло. Всемирно известный герой Солженицына Иван Денисович Шухов — всего лишь скверная копия толстовского Платона Каратаева. Симулякр [418]. Синтетический, из головы придуманный, идеальный русский мужичок, безответный, терпеливый, запасливый. Трудолюбивый и всюду умеющий выжить. Россия, загипнотизированная Львом Толстым и Александром Солженицыным — крупными знатоками «народа», — сто пятьдесят лет ждала, когда ж появятся из гущи народной такие мужички и с хитрым прищуром рубанут правду-матку.
Если сейчас не внести ясность в этот вопрос, Россия будет еще сто пятьдесят лет ждать появления упомянутого мужичка, который, как кажется автору этих строк, еще во времена Льва Толстого существовал только в сознании Льва Толстого, а уж во времена Александра Солженицына существовал с большим трудом даже в сознании Александра Солженицына.
А лагерники Шаламова не трудолюбивы и не умеют жить. Они умирают. Они — зомби, полулюди-полузвери. Они сломаны и расплющены. Они пребывают в параллельной вселенной, где элементарные физические законы поставлены с ног на голову. Они озабочены — буквально — существованием «от забора до обеда».
Шаламов рассматривает не личность, а пепел, оставшийся при ее сгорании. Шаламова интересует не человеческое достоинство, а его прах.
Лагерь Шаламова — королевство абсурда, где все наоборот. Черное — это белое. Жизнь — это смерть. Болезнь — это благо, ведь заболевшего отправят в госпиталь, там хорошо кормят, там можно хоть на несколько дней отсрочить свою гибель.
В рассказе «Тишина» начальство в порядке эксперимента досыта накормило бригаду доходяг — чтоб работали лучше. Доходяги тут же бросили работу и устроились переваривать и усваивать невиданную двойную пайку, а самый слабый — покончил с собой. Еда сообщила ему силы, и он потратил эти силы на самое главное и важное: на самоубийство.
В рассказе «Хлеб» герою невероятно повезло: его отправляют работать на хлебозавод. Бригадир ведет его в кочегарку, приносит буханку хлеба — но истопник, презирая бригадира, за его спиной швыряет старую буханку в топку и приносит гостю свежую, еще теплую. А что герой? Он не ужаснулся расточительности истопника. Он не изумлен благородством жеста: выбросить черствый хлеб, принести голодному свежий. Он ничего не чувствует, он слишком слаб, он лишь равнодушно фиксирует происходящее.
Писатель жесток. Надежды нет. Героев не бывает. Человек — это не звучит. [419] Человек остается человеком только до определенного предела. Расчеловечивание — несложная процедура: холод, голод, непосильная работа, круглосуточное унижение, отсутствие надежд на лучшее будущее за год-два превращают в животное любого и каждого.
Фамилии и характеры персонажей Шаламова не запоминаются. Нет метафор, афоризмов, никакой лирики, игры ума, никаких остроумных диалогов. Многие ставят это в упрек автору «Колымских рассказов». Утверждают, что Шалаллов слаб как художник слова, как «литератор», обвиняют его в репортерстве и клеймят как мемуариста. На самом деле тексты Шаламова, при всем их кажущемся несовершенстве, изощренны и уникальны. Персонажи одинаковы именно потому, что в лагере все одинаковы. Нет личностей, нет ярких людей. Никто не балагурит, не сыплет пословицами. Рассказчик сух, а по временам и косноязычен — ровно в той же степени, как косноязычны лагерники. Рассказчик краток — так же, как кратка жизнь лагерника. Фраза Шаламова ломается, гнется, спотыкается — точно так же, как ломается, гнется и спотыкается лагерник. Но вот рассказ «Шерри-бренди», посвященный смерти Мандельштама, — здесь Ша-ламов уже работает практически белым стихом: ритмичным, мелодичным и безжалостным.
Шаламов последовательный и оригинальный художник. Достаточно изучить его эссе «О прозе», где он, например, заявляет, что текст должен создаваться только по принципу «сразу набело» — любая позднейшая правка недопустима, ибо совершается уже в другом состоянии ума и чувства. Более того, там же Шаламов утверждает, что способен заметить позднейшие вставки и следы редактуры в тексте любого другого сочинителя. Шаламову отвратительна «изящная словесность», красота ради красоты — все должно работать на результат и только на результат. Содержание не определяет форму — содержание и форма есть одно и то же. Шаламов отрицает тип «писателя-туриста», квалифицированного стороннего наблюдателя (в пример он приводит Хемингуэя), изображающего события так, чтобы они были понятны и интересны «широкому читателю». По Шаламову, писатель обязан погрузиться в толщу жизни, чтобы испытать те же чувства, что и его герои; именно трансляция истинного чувства есть задача писателя.
«Чувство» — определяющая категория Шаламова. Рассуждениями о чувстве, подлинном и мнимом, полны его эссе и записные книжки. Способность и стремление к передаче подлинного чувства выводят Шаламова из шеренги «бытописателей», «этнографов», «репортеров», доказывают его самобытность.
Он не жил анахоретом, досконально разбирался в живописи, посещал выставки и театральные премьеры. Принимал у себя поэтическую молодежь — к нему захаживал Евтушенко. Переживал из-за вечного безденежья.
Мог матерно выбранить уличного хама. Был горд, заносчив, эгоцентричен. Очень честолюбив. Мечтал о славе де Голля. Верил, что его стихи и проза обгонят время. Признавался близким: «Я мог бы стать новым Шекспиром. Но лагерь все отнял».
Варлам Шаламов умер в 1982 году. Умер, как и положено умереть русскому писателю: в нищете, в лечебнице для душевнобольных стариков. И даже еще кошмарнее: по дороге из дома престарелых в дом для умалишенных. Канон ужасного финала был соблюден до мелочей. Человек при жизни прошел ад — и ад последовал за ним: в 2000 году надгробный памятник писателю был осквернен, бронзовый монумент похитили. Кто это сделал? Разумеется, внуки и правнуки добычливых Платонов Каратаевых и Иван-Денисычей. Сдали на цветной металл. Думается, сам Шаламов не осудил бы похитителей: чего не сделаешь ради того, чтобы выжить? Колымские рассказы учат, что жизнь побеждает смерть, и плохая жизнь лучше хорошей смерти. Смерть статична и непроницаема, тогда как жизнь подвижна и многообразна. И вопрос, что сильнее — жизнь или смерть, — Шаламов, как всякий гений, решает в пользу жизни.
Есть и кафкианское послесловие к судьбе русского Данте: по первой, 1929 года, судимости Шаламов был реабилитирован только в 2002 году, когда были найдены документы, якобы ранее считавшиеся утраченными. Не прошло и ста лет, как признанный во всем мире писатель наконец прощен собственным государством.
Чем далее гремит и звенит кастрюльным звоном бестолковый русский капитализм, в котором нет места ни уважению к личности, ни трудолюбию, ни порядку, ни терпению, — тем актуальнее становится литература Вар-лама Шаламова. Именно Шаламов подробно и аргументированно заявил: не следует переоценивать человека. Человек велик — но он и ничтожен. Человек благороден — но в той же степени подл и низок. Человек способен нравственно совершенствоваться, но это медленный процесс, длиной в столетия, и попытки ускорить его обречены на провал.
Поосторожней, братья, — путь от человека к зверю не так долог, как нам кажется.
«Мы, — писал Шаламов, — исходим из положения, что человек хорош, пока не доказано, что он плох. Это чепуха».
418
Симулякр (лат. simulacrum — «изображение, подобие») — изображение, не имеющее оригинала; представление того, что на самом деле не существует. — Прим. ред.
419
Ср. «Че-ло-век! Это — великолепно! Это звучит… гордо!» (М. Горький. На дне). — Прим. ред.