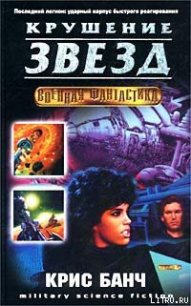«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - Кантор Владимир Карлович (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Однако я не случайно процитировал столь обширный отрывок из Хомякова. Дело в том, что обращение русских мыслителей к истории всегда воспринималось как сущностное понимание культуры, в рассуждениях о прошлом видели на самом деле оценку настоящего. Одним из самых табуированных понятий было в те годы в эмиграции понятие народа. Было легче думать, что народ не принял большевистскую власть, а был, так сказать, изнасилован и запуган «новыми татарами». Ответ мыслители искали в сходных ситуациях прошлого. Прямую линию, как известно, можно провести через две точки. В истории аналогию сталинизму можно было увидеть в деяниях Ивана Грозного, любимого Сталиным царя. Говоря о преступлениях Ивана Грозного, Федотов, ссылаясь на русских книжников эпохи Смутного времени, видит «грех народа» в «“безумном молчании”, т. е. в пассивной покорности преступной власти. Мученичество митрополита Филиппа, обличения двух юродивых явно недостаточны, чтобы уравновесить предательство епископов, осудивших Филиппа, низость десятков тысяч людей, служивших в опричнине и извлекавших из нее выгоду. Народ, как и боярство, был жертвой Грозного. Но, может быть, он кое в чем и сочувствовал ему по мотивам классовой злобы или национальной гордости. По крайней мере, в массах своих он без ужаса и отвращения относится к Грозному царю» [1041]. Это была не первая статья Федотова, вызвавшая раздражение эмигрантской публики, в том числе и сотоварищей по цеху. Намек на эти столкновения есть в публикуемом письме Франка, но смоделировать ситуацию вполне возможно по громкому парижскому скандалу вокруг текстов Федотова в 1939 г.
Существуют некие национальные мифологемы, некие иллюзии, которые становятся нормой общественного сознания, прежде всего сознания нерефлексивного. Во все времена философы занимаются тем, что подвергают сомнению устоявшиеся и ставшие привычными взгляды соплеменников. Пример Сократа в данном случае хрестоматиен. Философия в лице Сократа стала воспринимать общепринятые принципы и нормы поведения как проблему, тем самым ломая устоявшиеся представления афинян о мире и о самих себе, что, естественно, вызывало возмущение, даже ненависть граждан самого просвещенного греческого полиса. В «Апологии Сократа» мыслитель говорит на суде, что он «приставлен» к Афинам, «как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а меня вы можете сохранить, если мне поверите. Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убьете, <…> и тогда всю остальную вашу жизнь проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще кого‑нибудь» [1042].
Но дело в том, что только самокритика позволяла далее строить некую систему надежд, указывая культуре перспективы. И относится это не только к Сократу и античности, но к становившейся русской мысли, где споры идейных противников не означали открытия одной из сторон объективной истины, и, скажем, термин «славянофильство» не был ни знаком благородства, ни знаком приспособленчества. То же самое относится и к западничеству. Но беда и специфика отечественных споров в том, что они повторяются уже два, а то и три столетия. И как только появляется мыслитель с неординарным взглядом на судьбу России, так его поначалу записывают во враги (как было, скажем, с П. Чаадаевым, К. Леонтьевым и т. п.), чтобы затем восхищаться им. Таковым в ХХ веке стал Георгий Федотов. Федотов сейчас один из наиболее цитируемых русских философов эмигрантской поры. Острота мысли, изящество стиля и даже резкость приговоров о России, которая так смущала его современников, а теперь списывается на обстоятельства времени, — все это (к тому же покрытое благородной патиной времени) сегодня вполне востребовано. Острота ушла, а оригинальность осталась, оригинальность же не может не нравиться. Между тем даже его соредактор по «Новому граду» Федор Степун в своих воспоминаниях о Федотове не удержался от укоризненных слов: «Читать последние федотовские работы без горечи даже и бесспорно объективному русскому человеку нелегко. Примиряет с Федотовым лишь живое ощущение той боли о России и того стыда за большевизм, которыми, бесспорно, продиктованы все его размышления, в частности и та страшная картина мира, которая рисуется Федотову в случае победы России в будущей войне против Запада» [1043].
И это пишет Степун! Что же говорить о более ортодоксальных мыслителях эмиграции! Именно с ними столкнулся Федотов в 1939 г., когда большинство профессоров Богословского института в Париже неожиданно стало требовать от него унифицированного поведения, разгорелись дикие интриги, которые чуть было не привели к отставке Федотова из этого Института [1044]. Подковерная борьба, которая, казалось бы, была свойственна прежде всего жизни при советской власти, вполне торжествовала и в среде русской эмиграции, которую мы чохом привыкли воспринимать как «гаранта российской свободы». Ситуация же была много сложнее. И когда речь шла о хорошо оплачиваемой работе, за нее готовы были подличать и осуждать того, на кого указывал перст начальника, мыслители, имена которых весь период нашего взросления, мы произносили с уважением и почтением. Конечно, бытовое поведение не отменяет научных заслуг, не зачеркивает высказанные идеи, но, занимаясь историей русской мысли, мы должны до конца оценивать и степень свободы каждого мыслителя. Причем, как всегда, столкновения происходили «на нашей датской почве», по поводу степени возможности беспристрастного анализа России. Имеет ли право мыслитель позволить себе покуситься на общепринятое представление о том, что происходит на родине? Не меньше это касалось и темы православия, как духовной основы эмигрантского сообщества.
По отношению к Федотову, человеку благочестивому, автору многих замечательных текстов о православии и русской культуре, выстраивалась модель, по которой ревнители афинских традиций осудили Сократа. В. Соловьев так объяснял причину их раздражения: «Пока охранители могли видеть в своих противниках людей безбожных и нечестивых, они сознавали свое внутреннее превосходство и заранее торжествовали победу: могло казаться в самом деле, что они стоят за саму веру и за само благочестие, была видимость принципиального, идейного спора, в котором они представляли положительную, правую сторону. Но при столкновении с Сократом положение совершенно менялось: нельзя было отстаивать веру и благочестие как такие против человека, который сам был верующим и благочестивым, — приходилось отстаивать не саму веру, а только отличие их веры от веры Сократовой, а отличие это состояло в том, что вера у Сократа была зрячая, а у них слепая. Сразу обнаруживалась таким образом недоброкачественность их веры, а в их стремлении непременно утвердить именно эту прочную слепую веру проявлялась слабость и неискренность ее» [1045]. Конечно же, люди, почувствовавшие такую свою уязвимость, могли только ненавидеть искреннего и умного человека и, обвиняя его в попрании святынь, разумеется, подвергнуть остракизму.
Эта история 1939–го года имела в достаточной степени показательный характер. Крайне правая монархическая газета «Возрождение» обвинила Федотова, передергивая цитаты из его статьи «Торопитесь!», в симпатии к Сталину и коммунистической партии. Обвинение нелепое для любого, кто читал Федотова, в том числе и вышеназванную статью. Статья была ответом на призывы к свержению коммунистического режима в СССР. В статье же говорилось о возможной гибели России, поскольку тиран накануне войны (кстати заметим, что война России и Германии ожидалась как нечто само собой разумеющееся) уничтожил весь цвет армии и задавался вопрос, какие видны пути спасения страны. Но что происходит в стране? Против кого сейчас бороться? «Может быть, против коммунизма или коммунистической партии. Но коммунизма в России нет, а партия сохранила от коммунизма только имя. Все настоящие коммунисты или в тюрьме, или на том свете. Партия стала лишь необходимым аппаратом власти в тоталитарно — демагогическом режиме. Она лишь приводной ремень, передающий очередные приказы диктатора стране. Может быть, этот ремень излишен и чекистско — пропагандистский государственный аппарат справится один с этой задачей. Но что выиграет страна от сосредоточения всей страшной власти диктатуры в одних чекистских руках?» [1046]