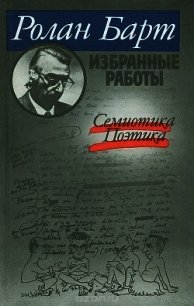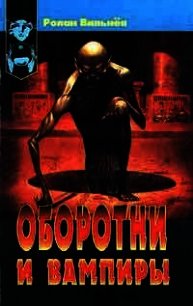Империя знаков - Барт Ролан (читать книги без регистрации полные .TXT) 📗
119
ным или невозмутимым (что само по себе еще несет смысл) — но словно вынутым из воды, отмытым от смысла, — это и есть ответ на вызов смерти. Посмотрите на эту фотографию от 13 сентября 1912 года: генерал Ноги, победитель русских при Порт-Артуре, сфотографировался вместе со своей женой; их император только что умер, и они на следующий день решили последовать за ним, покончить с собой; стало быть, они знают;он, за своей бородой, фуражкой и пышными волосами, почти совсем утерял лицо; но она, она целиком сохраняет свое лицо — невозмутимым? глупым? простоватым? исполненным достоинства? Как и для актера-травести, здесь невозможны какие-либо прилагательные, все прилагательные устранены — не торжественным событием близкой смерти, но, напротив, — устранением смысла самой Смерти, Смерти как смысла. Жена генерала Ноги поняла, что Смерть была смыслом, что и то, и другое упраздняются одновременно, а следовательно, не нужно «говорить об этом», пусть даже своим лицом.
МИЛЛИОНЫ ТЕЛ
Француз (если он не за границей) не может классифицировать французские лица; он, конечно, улавливает какие-то общие черты, но абстрактный образ этих повторяющихся лиц (или класс, к которому они принадлежат) от него ускользает. Тело его соотечественников, неразличимое в повседневности, есть речь, не соотносимая ни с каким кодом; дежа ею,связанное с этими лицами, не имеет для него никакой интеллектуальной ценности; красота, с которой он сталкивается, никогда не является для него сущностью, вершиной или итогом поиска, плодом умопостигаемого вызревания данного вида, но лишь случаем, выступом на плоскости, разрывом в цепи повторений. И, наоборот, тот же самый француз, если встретит в Париже японца, воспринимает его в соответствии с чисто абстрактным образом его расы (если предположить, что он вообще не видит в нем только азиата); между этими, столь редко встречающимися японскими телами он не может усмотреть никакой разницы; более того, однажды унифицировав японскую расу в рамках единого типа, он незаконно накладывает этот тип на образ японца, почерпнутый им из культуры, — не из фильмов даже, так как фильмы представ-
123
ляют ему лишь анахронических существ, крестьян или самураев, которые скорее соотносятся не с «Японией», а с данным объектом: «японский фильм», — но из каких-нибудь двух-трех фотографий в прессе или сводках новостей, и этот архетипический японец выглядит довольно плачевно: невысокий человек в очках неопределенного возраста, в строгом невыразительном костюме, — мелкий чиновник в перенаселенной стране.
В Японии все иначе: то небытие или избыток экзотического кода, на которые француз обречен при встрече с иностранным(которое ему не удается воспринять как странное),здесь поглощается новой диалектикой речи и языка, группы и индивида, тела и расы (тут можно говорить о диалектике в буквальном смысле слова, ибо то, что открывает перед вами — одним широким жестом — прибытие в Японию, так это превращение количества в качество, мелкого служащего в обильное многообразие). Открытие поражает: улицы, бары, магазины, поезда, кинотеатры разворачивают огромный словарь лиц и силуэтов, где каждое тело (каждое слово) говорит лишь за себя, и, между тем, отсылает к некоему классу; таким образом, ты получаешь удовольствие от встречи (с хрупким и особенным), и одновременно перед тобой высвечивается тип (хитрец, крестьянин, толстяк — круглый, как красное яблоко, дикарь, лопарь, интеллектуал, соня, лунатик, весельчак, тугодум), — вот где источник
124
для интеллектуального ликования, ибо неизмеримое оказывается измеренным. Погружаясь в этот народ, состоящий из сотен миллионов тел (такое исчисление предпочтительнее, чем исчисление «душ»), мы ускользаем от двойной неразличимости — от неразличимости абсолютного разнообразия, которое в конечном счете есть не что иное, как чистое повторение (как это происходит с французом, находящимся в ряду своих соотечественников), и от неразличимости единого класса, лишенного всякого различия (как в случае с японцем — мелким чиновником, как его представляют себе европейцы). Между тем, здесь, как и в других семантических группах, система ценна в тех моментах, где она остается открытой: складывается некий тип, но его индивидуальные представители никогда не находятся бок о бок с ним: в каждой группе людей вы — по аналогии с фразой — ухватываете особенные, но узнаваемые знаки, новые, но в принципе повторяемые тела; в подобной сцене никогда не встретишь сразу двух сонь или двух весельчаков, и между тем, и тот и другой соединяются в узнавании: стереотип распадается, но понимание сохраняется. Или вот еще одно открытое место кода — открываются новые комбинации: вдруг совпадают дикое и женское, гладкое и взъерошенное, денди и студент и т. д., объединяясь в серии, порождая новые отсылки, ответвления — понятные и вместе с тем неисчерпаемые. Можно сказать, что Япония применяет одну и ту
125
же диалектику и к телам, и к объектам; посмотрите на отдел платков в большом магазине: бесчисленные, совершенно не похожие друг на друга, они, между тем, ни в чем не проявляют неповиновения по отношению к серии, никакого переворачивания порядка. Или то же хокку: сколько их появилось на протяжении японской истории? Они все говорят об одном: погода, растения, море, деревня, силуэт, — и, между тем, каждое представляет собой ни к чему не сводимое событие. Или же идеографические знаки: их невозможно логически классифицировать, ибо они выпадают из фонетического ряда, произвольного и вместе с тем ограниченного, а значит, и запоминаемого (как алфавит), и между тем они оказываются классифицированными в словарях, где — благодаря замечательному участию тела в процессе письма и упорядочивания — число и порядок действий, необходимых для начертания идеограмм, определяют типологию знаков. То же и с телами: все японцы (но не азиаты) составляют некое общее тело (не обобщенное, однако, как это может показаться издалека), и между тем, и вместе с тем — это обширное племя различных тел, каждое из которых отсылает к некоему классу, который ускользает, не нарушая при этом порядка, в сторону бесконечного порядка; в пределе они открыты, как и всякая логическая система. Результат или цель этой диалектики следующие: японское тело доводит свою индивидуальность до предела (подобно дзенскому учителю,
12/
который придумываетнелепый, сбивающий с толку ответ на серьезный и банальный вопрос ученика), однако эту индивидуальность не стоит понимать в западном смысле: она свободна от всякой истерии, она не стремится превратить индивида в обособленное тело, отличное от прочих тел и охваченное этой нездоровой страстью выгодно представить себя, охватившей весь Запад. Здесь индивидуальность — это не ограда, не театр, не преодоление и не победа; она — лишь отличие, которое, не предоставляя никому привилегий, преломляется от тела к телу. Вот почему красота не воспринимается здесь на западный манер — как непостижимое своеобразие: она вновь возникает здесь и там, пробегая от одного различия к другому, встроенная в великую синтагму тел.
ВЕКО
Несколько черт, образующих идеографический знак, наносятся в определенном порядке, произвольном, но выверенном; линия, которую начинают с сильным нажимом кисточки, завершается самым кончиком, отклоняясь и меняя направление смысла в самый последний момент. Тот же способ начертания обнаруживается и в японском глазе. Можно сказать, что каллиграф-анатомист ведет широкой кистью от внутреннего уголка глаза и, слегка поворачивая ее, одной линией, как того требует живопись alia prima, открывает эллиптическую прорезь и закрывает ее по направлению к виску резким поворотом своей руки; эта черта совершенна, ибо проста, мгновен-на, непосредственна, и, между тем, она зрелая, словно круги, требующие целой жизни для того, чтобы научиться писать их одним свободным жестом. Таким образом, глаз обрамлен двумя параллельными краями и двойной изогнутой линией уголков, обращенной внутрь: словно отпечаток, вырезанный из листа бумаги, черта, оставленная широкой живописной запятой. Глаз — плоский (и в этом его чудо): не выпученный и не глубоко посаженный, без какой-либо кромки или углубления, и даже, если можно так ска-