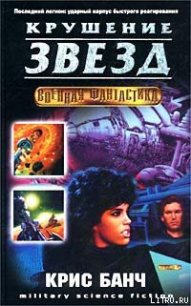«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - Кантор Владимир Карлович (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Стоит обратить внимание на еще одну тему, весьма важную для Койре. Русская культура до появления в 20–30–е годы XIX века любомудров была галломанствующей. Французские просветители, Вольтер, Монтескье и через этот язык античная философская классика. Но, как показал исторический опыт, французская культура была более политизированный, философский взлет, равный древнегреческому, переживала в этот момент Германия. Франция не дала России философского языка, способного освоить новые философские структуры мышления. Даже сразу после Карамзина, пишет Койре, «научный и философский язык еще долгое время находился в жалком состоянии — именно этим, по нашему мнению, объясняется почти полное отсутствие в ту эпоху влияния немецкой философии, что означало одновременно и отсутствие в России философской мысли» (34). Но процесс взаимообусловленный: философский язык возник вместе с влиянием немецкой философии, когда русских дворян с большей охотой стали отпускать в спокойную Германию, нежели в по — прежнему не очень спокойную Францию. Надо это сопоставить с тем, что русская профессура в большинстве своем состояла из немцев. Да и учились русские студенты в лучших германских университетах. «В университете, — писал, скажем, К. Д. Кавелин, — я со всем увлечением, к какому только был способен, отдался влиянию немецкой науки [1070], которая с 1835 года стала талантливо преподаваться целым кружком талантливых и свежих молодых профессоров» [1071].
Философия в любой культуре получает шанс на существование только при определенном условии: когда утверждается национальное самосознание и просыпается самосознание личности. Она возможна только на этом пафосе. Такова была ситуация в античной Греции после победы над персами. Россия как Рим усваивала чужое, вырастая на победе над Западом. Только победив Наполеона, русские осмелились взяться за самостоятельную работу. И, конечно, естественным был ход к немцам, союзникам в борьбе с Наполеоном.
Если раньше противостояние России и Запада воспринималось как противостояние варварства и цивилизации, то у юношей, в детстве переживших победу над Наполеоном, настроение было иное. «Проблема отношений с Западом виделась им в другом свете: речь шла уже не о противопоставлении русского варварства и европейской цивилизации, но об установлении отношений между цивилизацией русской и цивилизацией Запада. Но разве сами они не были до мозга костей пропитаны европейской цивилизацией, разве не чувствовали себя в Европе как дома? Разве они не были Европейцами? Своей миссией, своей исторической задачей они считали не перенесение западной цивилизации в Россию, но обоснование и выражение новой цивилизации, призванной занять почетное место рядом с западными нациями, обогатив новыми ценностями общую сокровищницу человечества, — новой цивилизации, которая, будучи наследницей европейской цивилизации, должна нести дальше врученный ей факел. Проблема российской цивилизации с самого начала ставилась ими как проблема мировой цивилизации» (4748). Соображение в известном смысле ключевое. Российская цивилизация не антитеза, но наследница европейской цивилизации. Но дело‑то в том, что именно с таким пафосом и начиналось русское философствование. Здесь Койре абсолютно точен. Излом, перелом пойдет дальше. И пойдет он по двум направлением: 1) страх власти перед свободой мысли, которую несла философия; 2) чувство соперничества с западной мыслью. Россия, как и Рим у древнегреческой мысли, много заимствовала у мысли западноевропейской. Рим, однако, владычествовал над Грецией, брал оттуда все по праву победителя, не утруждая себя всякими комплексами. Россия была сильна, недавно победила Наполеона, но Запад был сам по себе, она сама по себе. Поэтому интеллектуальное соперничество волновало русские умы не меньше, чем соперничество военное волновало государственную власть.
Глава 2 книги называется «Борьба с философией. И первая ее фраза такова: «Увлечение московской молодежи философией, и прежде всего теориями немецкого идеализма, любопытным образом совпадает с эрой преследования этих самых теорий, когда главная задача правительства заключалась чуть ли не в борьбе с философией и духом философии — если не с духом как таковым» (56). Власть боялась духа свободы. Поэтому «Голицын, Магницкий и Рунич в конечном счете действовали не без оснований, полагая, что философия — разрушительное начало, а потому следует либо попытаться создать новую философию, специально приспособленную к социально — политическому строю России, либо, если первое окажется невозможным, полностью упразднить преподавание философии» (59).
Койре подробно рассматривает и излагает (с обильными цитатами) взгляды первых русских профессоров философии. Начинает он с фихтеанца, затем шеллингианца Иоганна Баптиста Шада, бывшего католического монаха, перешедшего в лютеранство, ставшего учеником Фихте, который и рекомендовал его русскому правительству для преподавания философии. За его проповедь философской свободы, как основы мышления, совет министров в специальной резолюции объявил, что профессор Шад «не может быть вовсе терпим в России». Резолюция была подписана императором и «8 декабря 1816 г. бедный Шад в сопровождении двух жандармов был поспешно вывезен из Харькова и препровожден за границу России» (71).
Воистину, философия была у нас государственным делом, и даже европеист Александр не мог переварить ту дозу свободы и независимости, которую несла в себе философия. Русская культура не была еще готова к усвоению философии как способа мышления, мышления личностного и свободного. Впрочем, процесс этот и везде был долог. Вспомним казнь Сократа, изгнание Анаксагора и Спинозы, эмиграцию Декарта и Локка. Но Россия не переваривала и привозной философии, более того, именно потому, что она была привозной, собственных Сократов еще не было, с тем большим основанием отказывались от нее. Вскоре самобытный русский мыслитель будет объявлен сумасшедшим. Слава Богу, не казнят. В отношении к философии, в неприятии ее сходились и либеральные, и казеннопатриотические русские монархи. Александр I, «Благословенный», выслал Шада, Николай I объявил сумасшедшим Чаадаева, Александр II подписал каторгу Чернышевского, при Александре III был вынужден покинуть кафедру Владимир Соловьев.
Не без иронии пишет Койре, что вирус философии поразил не только провинциальные университеты Харькова и Казани, он проник и Санкт — Петербург, где свободно преподавались столь вредоносные учения о так называемом естественном праве, о правах человеческого разума и пр. В ответ «ученый комитет при главном управлении училищ» предложил программу «целостного православия» вместо германской метафизики. «Требовалось найти нечто новое, даже неслыханное, — пишет Койре. — Но где было взять его? Сравнительно легко запретить преподавание в университете пагубной философии; но как изгнать то, чему не находится замены? И как найти замену, иначе говоря, как создать философскую систему, моральные следствия которой не оказывались бы неприемлемыми для самодержавия? Как вообще можно создать философию, покорную цензуре? По самой своей сущности философия может жить и развиваться только в условиях свободы. Но свобода мысли, как и любая другая свобода, и даже более других, считалась врагом» (96).
Но свобода философствования проникает путями, которые не сразу улавливаются властью. Власть может только реагировать на результат, т. е. на уже случившийся элемент свободы. Власть опробовала свои методы, предвещая специфику большевистского террора в области мысли. Мысль шла тропками странными: ведь не заглянешь в голову профессора или студента, чтоб понять, как на него воздействовали порой самые информативные, отнюдь не подрывные философские идеи. Кант считался неприемлемым: «Философия Канта официально рассматривалась как атеистическая» (58). Шеллинг вроде бы проповедовал «философию откровения». Но происходила любопытная подмена. Для молодежи, увлеченной идеями романтиков и Шеллинга, учение немецкого мыслителя стало специфической формой религии. У архивных юношей «метафизика по существу заменила религию, сделалась настоящей религией. “Немецкие мудрецы” были для молодых “любомудров” апостолами нового Евангелия. Философия была их Богом, Шеллинг — пророком» (44). Вскоре они перебрались с помощью немецкой метафизики к настоящему Богу. Правда, привкус этого пути оставался в их сочинениях, что давало некоторые основания Флоренскому называть Хомякова «протестантом». Но вернемся к 20–30–м годам XIX века. Нельзя не согласиться с исследователем, что если в истории литературы и идей в России и существует какая- то общепринятая истина, то ею, несомненно, является преобладающее или даже исключительное влияние философии Шеллинга на мышление поколения 1820–х годов. У историков этой эпохи термин «русский шеллингианец» является самым распространенным. «Само имя Шеллинга и его философия занимали умы, насколько одни желали видеть в нем Учителя, а другие — орудие Сатаны, источник самых пагубных и опасных заблуждений» (116).