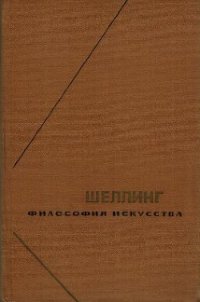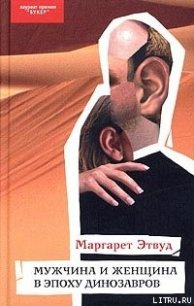Умирание искусства - Вейдле Владимир (книга бесплатный формат .txt) 📗
У К.Ф.Тарановского наблюдается, кроме того, некоторая странность в применении слова “ритм”, порождающая путаницу, едва ли даже в одной терминологии. Ритмом он называет то, что по-русски называется обычно метром или размером. Конечно, слово “ритм” может пониматься очень широко, так что в этой перспективе метры или размеры допустимо называть ритмами. Можно говорить о русских двухдольных (или трехдольных) ритмах (а не размерах), не рискуя вызвать недоразумений. Но четырехстопный ямб — или пятистопный хорей — это все-таки размер, а не ритм, и в тот же самый размер могут вкладываться поэтом, без нарушения его, очень отчетливо отличающиеся друг от друга ритмы. Автор “Домика в Коломне” улыбчиво отмечает ритмическое отличие пятистопного ямба с постоянной цезурой (на второй стопе) от такого же ямба без цезуры (или без постоянной цезуры). Это уже два разных ритма внутри того же размера; возможна и дальнейшая их дифференциация; но и эти ритмы являют более определенное лицо, чем пятистопный ямб в отвлечении от наличия или отсутствия цезуры; а “ямб” или “хорей” без указания на число стоп вообще не размеры, а лишь категории размеров (тут, пожалуй, можно сказать и ритмов). Но, во всяком случае, если какая-либо смысловая аура или, как предпочитает, следуя Виноградову [17], выражаться Тарановский, “экспрессивный ореол” и бывает присущ (о чем долго можно спорить) размеру или даже категории размера, то всегда он будет яснее ощутим в ритмах, более богатых признаками, чем размеры, то есть, например, в пятистопном хорее с постоянною цезурой, чем в пятистопном хорее “вообще” или без нее. А “Выхожу один я на дорогу”, как Эйхенбаум показал, как раз и написано таким подчиненным от начала до конца одинаковой цезуре пятистопным хореем, ритм которого квалифицирован еще и тем, что на первом слоге каждого стиха ударение отсутствует или заменяется полуударением. Ритм этого стихотворения, пишет Эйхенбаум, “отличается, во-первых, строгой цезурностью — во всех строках мы имеем мужскую цезуру после второго ударения, которая неизменно поддерживается синтаксисом”. Он отмечает полное отсутствие переносов, а затем продолжает: “Кроме того, предцезурная часть каждой строки, благодаря слабому или совсем отсутствующему первому ударению, образует в большинстве случаев как бы анапестический ход (…). Вместе с сильной цезурой после ударения это создает совершенно особое ритмическое впечатление”. Особенность его еще усиливается вследствие тяготения словесных групп в послецезурной части стихов к трехдольным (а не ямбическим) разделам (вроде “один я/на дорогу” или “так больно/и так трудно”). Но для более детального анализа я отсылаю читателя к поучительным страницам Эйхенбаума. — Не допускаю мысли, что Тарановский или Лотман их не читали; но ни тот, ни другой ни в какой мере не учли ритмической особенности лермонтовского текста. Оттого второй первого и не поправил; в химеру “лермонтовского цикла” вслед за ним уверовал.
А ведь если обратиться к предпоследней странице его работы, станет ясно, что Тарановский цезуру в лермонтовских стихах все-таки слышал. Он даже неожиданным образом там говорит, что предцезурное “Выхожу” в начале стихотворения “соответствует неровной человеческой походке: как будто человек сделал один шаг (или три шага) и на какую-то долю секунды остановился”. Вот именно: остановился,нодальше и не пошел, так что “динамическая тема пути”, о которой автор и здесь упоминает, вовсе оказывается ни при чем.Ноцезуру он здесь почувствовал очень хорошо, как и далее, когда говорит, что стихотворение может “мычаться” “с определенной эмоциональной окраской, приблизительно так:
Та-та-тб / та-тб-та та-та-тб-та
Та-та-тб / та-тб-та тб та-тб.
Мы можем не помнить слов, но будем чувствовать и переживать лирическое настроение”. Верно; при условии, однако, что мы лермонтовское стихотворение читали и в общих чертах помним, хоть, бытьможет, и не помним наизусть. Но этого переживания нам другие стихотворения “лермонтовского” якобы цикла как раз и не дадут. Отдельные строчки, как здесь же приведенные, Фофанова и Ахматовой “Kаждый шаг на жизненной дороге”, “Лег туман на белую дорогу”, действительно, ритмически родственны первому лермонтовскому стиху, но ритмическое сходство отдельных стихов не показательно, a стихотворения эти в целом столь различны и от лермонтовского отличны, что включать их в общий с ним “цикл” никакой возможности нет.
Их в этот цикл Тарановский, по-видимому, и не включает (а ведь жаль: “дорога” в обоих налицо). Зато он определенно в него включает стихотворение Тютчева “Накануне годовщины 4 августа 1864 года” (“Вот бреду я вдоль большой дороги”) и этим снова вводит в соблазн Лотмана, который мысли этой подчиняет весь свой анализ тютчевского стихотворения (стр. 186—203), хотя менее убедительного сближения двух стихотворений трудно себе и представить. Тарановский (стр. 301) объявляет стихотворение это “прямой вариацией на лермонтовскую тему” и цитирует первую из трех его строф, курсивом выделяя слова, очевидно подтверждающие, на его взгляд, эту мысль о “прямой вариации”:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Подчеркиванья эти совершенно безосновательны. Лермонтов по кремнистой своей дороге не только не бредет, но, как мы видели, и не идет. Ему “больно и трудно”, но (в поэзии) это совсем не тоже, что “тяжело”, а вследствие другого расположения в стихе интонация тут возникает тоже совсем другая. Одно в этих воспроизведенных мною подчеркиваньях хорошо, — недаром “стиховед” подчеркивал. Не “Вот бреду” он подчеркнул и не “Тяжело”, а “Вот бреду я” и “Тяжело мне”, тем самым подчеркнув, совсем, однако, этого не осознавая, что цезура в этих строчках, как и в двух других того же четверостишия, слабая (женская), так что ритмика этих строчек вовсе не та же, что характеризует насквозь все двадцать лермонтовских строк. Она в дальнейшем у Тютчева меняется. Во второй строфе цезура повсюду сильная (мужская); в третьей тоже, за исключением второго стиха, но и эти строфы даже и своим бессловесным, едва помнящим о словах та-та-та никак не вызовут у нас того же “лирического настроения”, что лермонтовские стихи, или даже сколько-нибудь на него похожего. Ведь и при мужской цезуре первое ударение упраздняется здесь лишь в первых двух стихах второй строфы, а во всей третьей, как и в последних стихах двух первых, оно подчеркнуто с особой силой. Кроме того, после мужской цезуры тут повсюду наблюдается тяготение к ямбам, а не к трехдольности:
Никакого сходства этого стихотворения с последним лермонтовским не могу я признать, кроме как в трех пунктах: оба стихотворения прегрустные, “смертельно” грустные (лермонтовское находит искомый “покой”, но в невозможном); оба принадлежат к числу высших созданий русской лирики и оба написаны пятистопным хореем, являя, однако, ритмы предельно различные из всех возможных в его метрических границах. Этой последней очевидности ни Тарановский, ни Лотман видеть не хотят. В известном смысле это и понятно; признай они ее, и научные, “строго, научные” их построения распались бы во прах. Думаю, что им и суждено распасться. Быстрей бы это случилось, если бы не прискорбно разросшееся за последние десятилетия доверие ученых ко всему, что им подносится в упаковке, соответствующей привычным для них правилам.