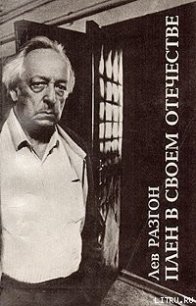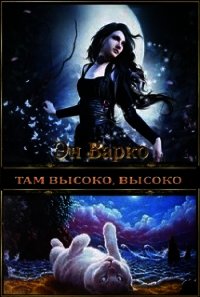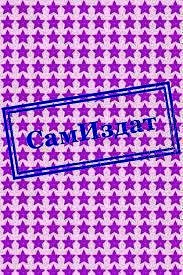Избранное. Логика мифа - Голосовкер Яков Эммануилович (книги бесплатно читать без .TXT) 📗
Здравый же смысл позитивистов мог усмотреть в Платоне только основоположника какого-то «объективного идеализма», также рассматривая своим сенсорным чувственным глазом его систему философии в перевернутом виде, как бы в ракурсе, когда ноги кажутся короткими, а голова преувеличенно вознесенной.
В позиции этого сенсорного глаза есть порой нечто положительное, когда он рассматривает имагинативное познание, как особое замещение познания позитивного, испытавшего ряд метаморфоз, или условных импульсов, которые придали ему символический характер (заместительный). Этот «символизм» может удовлетворять нас или может быть нами воспринимаем эстетически. Но опять-таки это эстетика крыши, а не пола философии.
Положив в основу эстетическое начало, философы Эллады выступают перед нами как величайшие мастера мысли, и мы, отводя вопрос о научной истине, можем любоваться и эстетически наслаждаться и восхищаться их философией, независимо от наших воззрений. Этим всем эллины обязаны своему дару воображения.
Воображение необычайно объемно. Оно способно охватывать одновременно все стороны материального тела [9] и вдобавок всё, что внутри тела. Воображение обладает таким свойством, благодаря которому мы в один и тот же момент можем себе представить человека не только спереди, сзади, с боков и снизу, но можем представить себе тут же его легкие, сердце, печень, желудок, словом, всё его нутро. Наше материальное око, в лучшем случае, охватывает только три стороны призмы и притом в перспективе, — наше воображающее око охватывает всё и целиком, и в раздельности, снаружи и внутри. Оно не нуждается в перспективе. Оно обладает свойствами большими, чем лучи Рентгена.
Более того: воображение перерабатывает наблюдения, возникающие из чувственного опыта, из мира, а не только отражает его, как зеркало. Воображение позволяет нам думать о вещах, лежащих вне предела нашего опыта: об остывшем Солнце, о взорванной Земле, о следствиях энтропии. Оно даже вырабатывает понятия прямо противоположные опыту — фантастические. Впрочем, фантазия — это только одна из игр воображения, вроде игры в сновидения. Во сне мы иногда видим нечто невиданное и невидимое для яви. Во сне мы порой предугадываем будущее и познаем еще непознанное, но как часто мы забываем свои «вещие» сны.
Да, воображение и память! — Но об этом после.
Я передумал некоторые мысли Болеслава Пруса [10]. Он, как большинство, как и Фейербах, смешивает работу чувств с работой воображения. Чувство подает топливо воображению, нагнетает его огонь. Но иногда чувство надо устранить: когда оно мешает творческому познанию воображения. Отмечу также, что способность представлять отнюдь не то же, что воображать.
Прус писал: «Существование фантазии доказывает, что наша душа представляет собою не фотографическую камеру, на которой отражается чувственный мир, а машину, которая, по существу, перерабатывает наблюдения, берущие начало из мира».
Однако суть дела не только в отражении впечатлений от мира, не только в переработке-комбинировании, но еще в уловлении до того неуловимого и в прибавлении к тому, что есть, чего-то такого, чего еще не было.
Добавлю неслучайную мысль.
У животного есть тоже воображение. Оно должно быть образным, ибо животное, будучи лишенным дара речи, думает не словами, а образами, т. е. представляет себе зрительно тот предмет, о котором идет речь. Так думает котенок у Чехова в рассказе «Кто виноват». И это не антропоморфизация. Игры животных также требуют воображения. Но воображение человека уже тем отлично от воображения у животного, что человек может размышлять о своей жизни, продолжающейся якобы и после смерти, может сравнивать посюстороннюю жизнь с потусторонней. У человека не частное воображение, как у животного, а универсальное воображение, неограниченное (в принципе) и свободное (в принципе) [11].
Без воображения не было бы и «великой политики».
Соединена ли тайна воображения с секретом памяти? На этот вопрос пытался ответить Анри Бергсон [12]. Он даже свел воображение к памяти, ради чего создал две памяти: одну память, которая воображает, и другую память, которая повторяет. Память, которая повторяет, может порой заменить ту память, которая воображает и нередко дарит первой памяти иллюзии. В итоге Бергсон свел воображение к сочетанию воспоминания и грезы.
Он говорит: чтобы вызывать прошлое в виде образа, надо уметь отвлекаться от действия в настоящем, надо уметь ценить бесполезное, надо хотеть мечтать. Образы [13], накопленные самопроизвольно памятью, — это образы-грезы. Они постепенно бледнеют и исчезают, и появляются помимо нашей воли. С грезою несколько сходны воспоминания, приносимые памятью. Она вторгается в духовную жизнь более правильно, но это вторжение обходится без глубокого нарушения умственного равновесия. Память воспроизводит столь же капризно, как сохраняет точно.
Итак, воображение, сведенное к воспоминанию, которое приравнено к мечтанию и притом к бесполезному мечтанию, — такое воображение не творит, не познает: оно отдается сновидениям. Но в этой зыбкой картине, в этом аналитическом скольжении психолога Бергсона, проглядывают все те характерные черты воображения, силой которого создает и одновременно познает мыслитель и художник. Образы-грезы, появляющиеся помимо нашей воли, и более правильное вторжение воспоминания — это и есть тот мир, в котором обнаруживает себя спонтанно самодвижущая логика воображения с ее смыслообразами, с ее наглядностью. То обстоятельство, что надо хотеть мечтать для того, чтобы воображать, указывает на то, что в этом «хотеть» есть нечто от понятия о присущем человеку высшем инстинкте с его побудом к абсолюту. Только у Бергсона воображение находится во власти у памяти, когда на самом деле память находится скорее в услужении у воображения.
Творческое воображение не слепо воспроизводит то, что выбрасывает память на его экран. Воображение выбирает: оно и выискивает из склада памяти, оно выхватывает из роя реющих образов и смыслов ему нужное. Состояние, когда выбор этот мгновенен, совершается без размышлений, само собой, и при этом до того точен и логичен, что нам кажется, будто кто-то внутри нас или с какой-то «духовной высоты» его диктует нам, и всё совершается в нас с какой-то словно необходимостью «свыше», — такое состояние называется вдохновением: инспирацией. Это «свыше» и есть повелительный и колдовской голос воображения.
Мы располагаем признаниями философов и поэтов, слышавших этот внутренний голос, который им диктует. (— Он не только легенда на Синае. Его слышал Руссо, когда его осенила «идея» ответа на тему Дижонской академии: здесь ему можно доверять.) Его слышал Ницше в Энгадине перед тем, как приступить к созданию «Заратустры». Об этом рассказано в его автобиографии, в «Ессе Homo». Так Пушкин писал «Медного всадника» и, по-видимому, «Полтаву». Так писали библейские пророки — величайшие поэты. Так создавал музыку глухой Бетховен. Несомненно, и Бах: иначе его невероятную плодовитость не объяснить. Какие-то Гималаи вдохновения! Не иначе и Левитан, и Врубель. Незачем нагромождать примеры: они общеизвестны и несомненны.
Вдохновение — это высокий подъем и сосредоточенность, когда взволнованное чувство всецело переливается в работу воображения, т. е. в мысль. Однако до сих пор вдохновение принимают за аффективное состояние. Но аффекты, если они не переливаются в воображение, мешают воображению. Здесь необходима метаморфоза, переход одного состояния в другое и их слияние и взаимодействие, чтобы возникло нечто третье. Как холоден бывает иной создатель, как холоден кажется логик Гегель [14], и как страстно пожирало его — по его собственному признанию — его воображение.