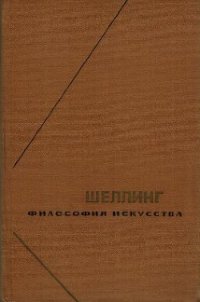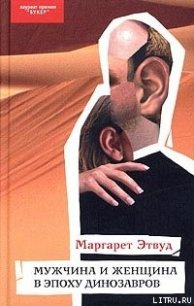Умирание искусства - Вейдле Владимир (книга бесплатный формат .txt) 📗
Пушкинский гекзаметр “Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую” Ю.М.Лотман (стр. 90 той же книги) поясняет так:
“Краткие прилагательные “грустен” и “весел” находятся в одинаковой синтаксической позиции, выражены теми же самыми грамматическими формами. Между ними устанавливается отношение параллелизма, которое не дает возможности понять текст (в нехудожественном тексте это было бы возможно) как указание на существование в сознании автора двух различных, не связанных между собой душевных настроений. В художественном тексте оба члена воспринимаются как взаимно аналогичные. Понятия “грустен” и “весел” составляют вэаимосоотнесенную сложную структуру”.
Сперва о языке. Все-таки, когда ты пишешь о литературе, старайся писать гибким, точным и экономным литературным языком. Сказав “краткие прилагательные” (раз ты нашел это неизлишним), на том и успокойся: ты нас уже оповестил об одинаковости грамматических форм, которыми, однако, “выразить” этих прилагательных никак нельзя, ни по-русски, ни на каком из других мне известных языков. И как же ты не слышишь, что “указание на существование в сознании ” немножко вязнет в ухе (и даже в сознании), как не понимаешь, что всякая аналогия взаимна и что “взаимосоотнесенная сложная структура” ничего не прибавляет, кроме накрахмаленных словес, к тому, что ты уже сказал? (С чего ж это я на “ты” перешел? Ей-Богу не со зла: от семейственного огорченья. Печалюсь, что собратья мои по перу и языку языка нашего не берегут. Разве так много всего прочего у них от Толстого или Пушкина осталось?)
Теперь о мысли. Она проста. Все знают, что и самые противоположные чувства могут порой сливаться воедино. Если я скажу безо всякого параллелизма: “Весел он, но в самом его веселье есть и грусть”, это будет полностью понятно. Но беда-то в том, что у Пушкина вовсе не о таком слиянии шла речь. “Весел” в этом стихе относится к одобрению работ скульптора (Орловского), а “грустен” к отсутствию Дельвига (которого уже пять лет как не было в живых). Естественно даже предположить, что поэт, посетитель мастерской, сперва порадовался тому, что там увидел, а потом, о покойном друге подумав, взгрустнул. Анализ Лотмана, во всяком случае, не пояснил этот стих, а затуманил. Весь анализ — вовсе и не нужный — основан на ошибке. Что ж, ошибка эта случайна? Не думаю. Мысли не допускаю, чтобы Ю.М. всего этого стихотворения попросту не прочел или памяти о нем не сохранил. Ошибка его проистекает из затмения, вызванного привычкой за волосы притягивать примеры в подтверждение тяжеловооруженной, но небоеспособной теории. На следующей странице читаем: “…поэзия — это структура, все элементы которой на разных уровнях находятся между собой в состоянии параллелизма”. Опять! Все элементы! Система, машина… Р.О.Якобсону кажется точно так же, что везде структура и что структура — все; что ею и обеспечивается “литературность” литературного произведения (т.е. то самое в нем, на основании чего мы его причисляем к поэзии или к литературе). Это не просто “структурализм”, это тоталитарный структурализм. Я еще к этому вернусь; но замечу, что он и на Якобсона наводит порой затмения: утверждал же он, что в стихотворении Верлена восхваляются нечетные конструкции, о которых там и речи нет. Но Якобсон острей, хитрей, пишет сжато и точно, прямых ошибок лучше умеет избегать. Основные заблуждения те же и у него, но наглядно и просто опровергаемые последствия их у Лотмана обнаруживаются легче.
Быть может, и впрямь случайна ошибка, позволившая ему сказать (“Анализ”, стр. 115), что слово “гость” два раза встречается у Пушкина в первой части стихотворения “Когда за городом…”, тогда как оно встречается там и во всем стихотворении один раз. Спутал он, видимо, гостей с жильцами (могилы “Зеваючи жильцов себе на утро ждут”, а не гостей; за семь стихов до того эти “стесненные рядком” мертвецы тоже ведь, как и подобает, не назывались гостями, а лишь сравнивались в ними, да и не со всякими: “Как гости жадные за нищенским столом”). Но с какой натяжкой мысли ошибка эта связана, ею, нужно думать, и накликана! “Городу” свойственна временность: даже мертвец лишь гость могилы. Не случайно слово “гость” употребляется в первой половине два раза, то есть чаще всех других”. Нет, не употребляется, — “временность” смерти не подарена; а если б два раза и встречалось — ах ты Господи, “чаще всех других”! — ничего бы особенного это не означало. (Два раза, но во всем, правда, стихотворении, не в половине, встречаются урны и могилы; что ж из этого следует?) И не верен, да и до чего не нужен весь разбор! Например: “Первая половина текста имеет свой отчетливый принцип внутренней организации. Пары слов соединяются в ней по принципу оксюморона”. Замечу, кстати, что пишу я это слово через и, а не, следуя щучьему веленью, через ю. Щука (Академия?), по-видимому, забыла, что, распрощавшись с ижицей, миро у нас не стало мюром и жены-мироносицы не превратились в мюроносиц. Да и не повелела же она всему мелкорыбью писать “сюмвол” и “сюмфония”. Но Лотмана я, конечно, не за это корю, а за слишком уж расхлябанное, а то и совсем нелепое расширение соответственного понятия. “Нарядные гробницы” иронией звучит, но противоречия, для оксиморона потребного, тут нет; и если оно налицо в “амурном плаче” (по “старом рогаче”), то “усопший” чиновник или купец никаким оксимороном не награжден, в отличие от “скончавшегося” или “умершего”, а между “мертвецами” и “столицей” даже и тени противоречия не могу я усмотреть. Ничуть не убеждают меня и доводы, опирающиеся на “лакейскую песню” “Что за славная столица / Развеселый Петербург!”, где будто бы “Петербург” заменен “столицей”, хотя никакой замены тут нет, и тем более такой, из которой следовало бы, что слово “столица”, в пушкинское время, обозначало “город с подчеркнутым признаком административности, город как сгусток политической и гражданской структуры общества”. Боже ты мой, о структуре наслышались мы и без того, а тут еще “сгусток структуры”! И что ж, в этом сгустке людям помирать не полагается, что ли? “Все мертвецы столицы” — где тут оксиморон или какая бы то ни было риторическая “фигура”? И при чем тут “улично-лакейский жаргон”? Или “военная столица” в “Медном всаднике” на этом жаргоне и рифмует с “полнощною царицей”?
Хоть и говорит Лотман о различной степени несоединимости понятий в этих стихах, но понятия “усопшего” и “чиновника”, “столицы” и “мертвецов” остаются соединимыми на все сто процентов. Да и плохая скульптура (“дешевого резца”) никакого противоречия в себе не заключает, как и “урна” вполне может оказаться “праздной”, иначе говоря, пустой. Конечно, сложная игра ироническими, полупротиворечивыми, горько-саркастическими словосочетаниями в стихах этих, как всем всегда было известно, тут как тут. Незачем этого и объяснять… А если есть зачем, то объяснение должно быть совсем другого письма, не столь жестяное, не предполагающее систему там, где ее нет, не навязывающее Пушкину “принципов”, которыми он вовсе не руководился, — во имя Науки, которую он не только, не будучи идолопоклонником, не обожествлял бы, но и, будучи человеком трезвого ума, едва ли принял бы всерьез.
Постоянные натяжки в истолкованиях Лотмана, как и громоздкость их, раздавливающая их предмет, проистекают — не у него одного — именно из этого стремления к научности. Не филологической, ей оно вредит, а физико-математической, лишенной, в этой области, подходящих для нее предметов. Что ж тут и остается, как не обрабатывать неподходящие долотом и топором, в результате чего становятся, однако, измеримыми и весомыми не они, а обобщенные схемы их обрубков и осколков. Такая работа развивает особое хитроумие, в наивысшей степени присущее анализам Р.О.Якобсона, но приобретенное и Лотманом, порой себя оправдывающее у обоих, но которому сопутствует, особенно заметным образом у Лотмана, ущерб внимания к не укладывающимся в схему чертам, а то, как мы сейчас увидим, и элементарнейшей догадливости.