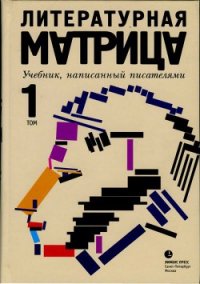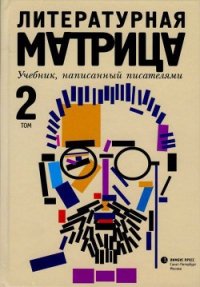Литературная матрица. Учебник, написанный исателями. Том 1 - Бояшов Илья Владимирович (книги полностью бесплатно TXT) 📗
«Русскость» Островского, признаваемая всеми и всегда, — идеальна. Она выросла из глубокой укорененности в родную почву, но напиталась гармонией духа и лишилась всех уродливых, отталкивающих крайностей. Островский гармонизировал сам себя и свое творчество так, что нелепости и дикости широкой, огромной, не-улаженной, действительно «самодурной» жизни обратились в красоту художества, проникнутого и созданного светлым умом и «горячим сердцем». Приходилось мне сталкиваться с мнением, что именно эта русскость, это сугубое пристрастие к родному рельефу и плоти родной жизни, стали препятствием для мирового признания Островского, что он гений, но локальный, — местного значения, в отличие от А. П. Чехова, допустим.
Это спорно. Островского много ставили и ставят за границей — и если Англия действительно усыновила Чехова в статусе чуть ли не национального драматурга, то через пролив дела мы видим иные, и Франция решительно предпочитает Островского, «русского Мольера» (а также русского Шекспира и русского Гольдони, заметим мы). Там особо любимы сатирические комедии Островского. Да и одна из первых биографических книг об Островском написана французом, Жаном Патуйе, и называется «Островский и его театр русских нравов». Широко известен драматург и в славянском мире, но дело не в этом.
Совершить все возможное в своем родном языке, в своей литературе, в своем театре — не значит ли это обрести мировое значение, и нуждается ли это значение в дополнительных «похвальных грамотах» на другом языке? Для меня ответ очевиден. Сам драматург нисколько не беспокоился на этот счет, как не беспокоился ни один русский писатель первого ранга (переведут ли? издадут ли за границей?). А то, что доподлинно волновало Александра Николаевича Островского, можно, наверное, понять из восклицания его героя, Козьмы Захарьича Минина, Сухорука: «Возможно ли, чтоб попустил погибнуть / Такому царству праведный Господь!»
Михаил Шишкин
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ТРИЛЛЕР
Иван Александрович Гончаров (1812–1891)
«Обломов» — великий русский триллер.
Налицо преступление. Есть обвиняемый. Судьба как следственный эксперимент. Виновен? Невиновен? Каждое поколение читателей отвечает на этот вопрос по-разному.
Преступление — русская нежизнь. Вопрос, который был задан в названии знаменитого романа Александра Герцена «Кто виноват?», остается самым животрепещущим русским вопросом вот уже почти два столетия. Кто виноват в пресловутых русских дорогах? Во взяточничестве и казнокрадстве? В начальниках-дураках? Кто виноват в рабстве сверху-донизу при любом режиме и любой экономической формации? Кто виноват в кровавой истории? Кто виноват в унижении человеческого достоинства на каждом шагу?
Обвиняемых пруд пруди, сколько и обвинителей.
Один из самых знаменитых подсудимых, проходящих по этому процессу, — Илья Ильич Обломов, застигнутый пером Гончарова in flagrante delicto, на месте преступления — на своем диване.
Генетические истоки Обломова и «обломовщины» революционно-демократические критики, а вслед за ними и советские школьные учебники находили в крепостническом прошлом отечества. Крепостное право кануло в русскую заболоченную Лету, а герой романа, кажется, рождается с каждым новым поколением заново. Может, дело все-таки не в крепостничестве?
Роман Гончарова — римейк русского инициационного мифа, мифа о становлении нации, о рождении русского психологического типа. В этом его мощь и надвременность.
Мифы — это опорно-двигательная система народного сознания. Поколения соединяются мифом, как позвонки. Главный миф — о рождении героя. Кто он, русский герой?
Раскручивая обломовскую спиральку ДНК, приходишь к главному богатырю древнерусского эпоса. Не находим ли мы абсурдно-комические черты гончаровского лежебоки в былинах об Илье Муромце, который первые тридцать три года своей жизни провел на лежанке, поплевывая в потолок? Что же заставило богатыря подняться и взяться за дело? Прохудившаяся крыша? Некормленая скотина? Непроезжие дороги? Отнюдь. Ради таких мелочей стоит ли с печки слезать?.. Только когда на святую Русь напали враги, первогерой поднялся, чтобы защищать родную землю.
Поколения «русских мальчиков» мучаются вопросом о смысле их жизни на замордованной то тиранами, то свободой родине. Сформированное мифом сознание шепчет на ухо ответ: можно спать до тех пор, пока не появится высокая цель, ради которой стоит принести свою жизнь в жертву.
Герой былины становится литературным отцом Обломова. Иван Гончаров называет своего персонажа Ильей Ильичом. Действие, а вернее, бездействие романа начинается с того, что герою тридцать три года и он их тоже проводит на лежанке.
Случись в книге война, то не было бы и проблемы: Обломов стал бы богатырем, славным защитником родины и в борьбе нашел бы смысл жизни и спасение души. Но что делать русскому человеку, когда враги ленятся?
То be or not to be?
В русском переводе этот вопрос человечества звучит примерно так: стоит ли латать прохудившуюся крышу сегодня, если завтра придет кто-то посильнее, и не враг, а свой, и из дома прогонит, а на лепетания про закон сунет под нос кулак, который и есть настоящий неписаный русский закон.
Частная жизнь в России дискредитирована. Неприкосновенность частной собственности как форма защиты прав слабых от сильных — бумажна. Народное сознание уверено: закон — что дышло. Если хочешь чего-то добиться, заниматься любым делом, кроме спасения отечества от врагов, нужно изворачиваться, унижаться, давать взятки, продавать душу по частям или целиком. Короче, с волками жить — по волчьи выть. А еще лучше самому стать волком. Может, потому и не вставал муромский богатырь с лежанки?
Русский Гамлет не может встать с постели, пока не решит для себя вопрос о цене своей души.
Гончаров предпринимает в своем романе уникальную попытку провозгласить новое в России отношение к частной жизни.
Вековая государева служба из поколения в поколение отбирала и тело, и волю, и мысли, но давала взамен наполненность души и праведный смысл существования. То, что с Запада казалось деспотией и рабством, в России воспринималось самоотверженным участием в общей борьбе с врагами, где царь — отец и генерал, а все остальные — его дети и солдаты. Отсутствие частной жизни компенсировалось сладостью погибели за родину. Протяженность отечества в географии и времени была залогом спасения, всеобщее неосознанное рабство горько для тела, но живительно для духа.
У реального Ильи из Мурома и времени-то не было валяться на лежанке. То поляков из Москвы прогоняй, то Петербург назло шведам строй! Погибали, но в народном сознании не было сомнения в праведности высших указов. Погибали во славу.
Но вот счастливому детству воюющей со всем светом нации приходит конец — немцы на русском троне объявляют вольность, сперва дворянам, а через век просвещения и поголовную. Начинается испытание дармовой, не завоеванной свободой. Русский человек получил право на частную жизнь, которой никогда до этого не знал.
«Обломов» появляется в 1859 году — за два года до манифеста Александра II, упразднившего всего для пары поколений рабство в России. С 1861 до 1917 года — пятьдесят шесть лет. Много для юноши — ежик для старика. С перспективы русского XXI века — крюк, а не столбовая дорога.
Привычная к Службе душа задала себе новый вопрос — для чего жить? Очевидный на Западе ответ: для себя, для детей, для того, чтобы делать ежедневные маленькие дела, не заботясь о высоких идеалах, — вовсе не представлялся очевидным потомкам Ильи Муромца. По страницам русских романов разбредаются, гонимые кириллицей, «лишние люди».
Частная жизнь — основа западной цивилизации — была поставлена в России под сомнение. Заполнить ею душу оказалось непросто. Генетическая память требовала замены службы Царю, Богу и Отечеству чем-то не менее возвышенным. Жизнь сама по себе, без высоких идеалов, «в домике с аистом на крыше», который Достоевский сделал русским символом западной бездуховности, преломилась в отечественном сознании в отвратительное бюргерство.