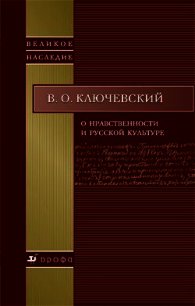Избранное - Доброхотов Александр Львович (бесплатные серии книг .txt) 📗
Определенный максимализм христианского понимания добра и зла смягчался тем, что христианская этика была не только единоборством человека с дьяволом, но и этикой сословной, корпоративной. Сословия вырабатывали собственный кодекс добродетелей, и человеку, разумеется, было легче раскрывать свою нравственную природу, опираясь на коллективный опыт, на принятые «прописи» и житийные образцы. Добродетели монаха и рыцаря, ремесленника и земледельца были разными: крестьянин не обязан был жертвовать жизнью ради идеала, монах не должен был исправно платить налоги, рыцарю не надо было пахать, все же вместе – равные перед Богом – они составляли иерархическую лестницу служения Добру, соединяющую Небо и Землю. Если же такое «разделение труда» слишком облегчало жизнь христианина, рано или поздно появлялся страстный учитель или проповедник, заставлявший встряхнуться задремавшую совесть. Вплоть до Лютеровой революции европейская христианская культура жила в этом ритме профанации и очищения идеалов свободного служения Добру.
Надо помнить, что кроме собственно философских размышлений, большое влияние на сознание современников оказывала литературная мифология, которая на севере Европы кристаллизовалась в цикле артуровских романов, а на юге – в «Божественной Комедии» Данте. При всем различии этих феноменов, в них мы находим общий для зрелого Средневековья идеал добра: это – ценность, которая требует одновременно рыцарского подвига и монашеского смирения, приятия мира как творения Бога и отвержения мира как самодостаточной реальности. Негатив этого идеала – зло – подтверждает то же самое. Мир и человек, замкнутые на себя, на самоутверждение, приходят к смерти и злу; мир и человек, утверждающие себя ради высшего смысла, приходят к спасению.
Расставаясь с темой средневековья, следует оговориться, что «европейское» средневековье было элементом более широкого исторического контекста – средневековой средиземноморской, культуры. Поэтому корректнее было бы говорить о трех, по крайней мере, этических моделях: западно-христианской, византийской и исламской. Но в рамках нашей задачи – проследить логику смены моральных ориентиров – достаточна и западноевропейская тематика.
Следующий поворот этического самосознания занял триста лет – XIV–XVI вв. Все три его великие компоненты – эстетическая (Ренессанс), этическая (Гуманизм) и религиозная (Реформация) – могут быть обобщены именно этическим принципом, то есть программой Гуманизма. (Нам более привычен термин «Возрождение», в котором эстетические коннотации преобладают.) Гуманизм данной эпохи, как известно, – это не «человеколюбие», а, скорее, «человекославие», «антроподоксия» (оба смысла греческого слова докса— слава и вера – здесь вполне уместны). Идеал гуманистической этики – вир-ту—требует доблести и силы, разворачивания природных потенций человека и, если понадобится, принесения человека в жертву идеалу. Но было бы неверно забыть о том, что здесь – в возрожденческом гуманизме со всеми его жесткими императивами и антицерковными выпадами – нет еще разрыва с христианством как таковым, поскольку сверхзадачей гуманизма было переосмысление долга человека перед небесами: не пренебрежение тварным миром, а его изучение и восстановление замысла Творца есть долг христианина с этой точки зрения. Поэтому нравственность становится вершиной природных потенций. Гуманистическая этика лежит в основе искусства Ренессанса, поскольку она сняла средневековые табу, обосновала возможность визуального и психологического антропоцентризма, возвеличила человека-творца. Она лежит в основе религиозной Реформации, поскольку обосновала право индивидуума на связь с абсолютом без посредников и сакрализовала моральную и трудовую добродетель. Пожалуй, она лежит и в основе возрожденческой науки, т. е. оккультной натурфилософии, для которой создала идеал всесильного и сурового мага (ср. Просперо из «Бури» Шекспира), не ждущего милости от природы. Однако оптимистический период развития этого типа этики заканчивается к середине XVI века. Произошел внешний конфликт Гуманизма с реальной историей (символична в этом смысле судьба Томаса Мора) и внутренний конфликт, разорвавший единый идеал на два полюса: идеал природного совершенства столкнулся с идеалом волевого самоутверждения, в результате чего выяснилось, что природа равнодушна к человеку и знать ничего не хочет о «венце творения», легко растворяя его в своих стихиях; человеческое же Я равнодушно к морали и легко превращается в разрушительную и даже саморазрушительную силу. Лютер, Макиавелли, Монтень, Сервантес, Шекспир – как бы ни пытались они идейно или эмоционально компенсировать разочарование – в осознании этого печального итога Гуманизма доходят до крайних глубин трагизма. Религиозные войны, которые велись с небывалой для Европы жестокостью, стали «достойным» фоном для духовной резиньяции. Но отказаться от завоеваний Гуманизма было уже невозможно. Возвращаться было некуда: ведь разрыв с католической культурой был усугублен тем, что последняя оказалась в этот момент неспособной к обновлению и реформам, подтверждая тем самым приговор гуманистов. Таким образом, речь шла о том, чтобы найти новую формулу Гуманизма. И, к счастью для Европы, она была найдена.
Суть новой формулы условно можно выразить так: человек – в состоянии быть мерой всех вещей, но не сам по себе, а как носитель высшего идеала. Задача теперь – в том, чтобы найти и истолковать этот идеал. Итоги поисков мы можем найти и в моделях абсолютизма, и в практике раннего капитализма, и в экспериментальном математическом естествознании, и в противостоянии классицизма и барокко, и в полемике рационализма с эмпиризмом, и в становлении нового правового сознания, и в новой педагогике, и в идеологии Контрреформации, и в расцвете утопизма. Обобщенно говоря, XVII век заложил духовный фундамент Нового времени благодаря интуиции, которая позволила найти середину между поляризованными крайностями и переосмыслить три ведущие темы нового сознания: природу, разум и человека. Нетрудно заметить, что речь идет о способности человека задавать объективную меру своим субъективным импульсам. Одно из самых устойчивых обозначений этой способности-рационализм. Поскольку ratio – это «мера», «пропорция», то термин можно признать удачным. Однако часто забывают (и это само по себе яркий симптом), что фундаментальный поворот в европейской культуре был обусловлен этической интерпретацией рационализма. Всегда, например, обращают внимание на то, что Спиноза придал своей этике противоестественную форму учебника геометрии, но труднее понять, что на самом деле здесь геометрии придается этический (собственно, религиозно-этический) смысл. Часто вспоминают призыв Паскаля «хорошо мыслить», чтобы осуществить предназначение человека, но редко обращают внимание на то, что здесь логика подчиняется этике, а не наоборот, так же, как в словах о «логике сердца» ударение стоит на «логике», поскольку именно этика является объективной мерой чувства и в этом контексте берет на себя роль логики. Одной из ключевых фигур этого процесса нового обоснования этики был Декарт. Мы можем рассмотреть его «когито» еще и как фундамент онтологии, включающей в себя метафизическое обоснование личности и морали. Декарт осуществляет доказательство единичности субъекта свободной воли и, в то же время, общезначимости осуществляемого им акта самосознания: тем самым обнаруживается способность индивидуума выходить в измерение «должного». В акте когито неразличимы свобода и необходимость, поскольку осуществляется «своя» необходимость. Здесь же подтверждается сократовский принцип тождества в добре воли и знания: ведь знание истины порождается волей к самосознанию, воля же становится волей, а не аффектом, благодаря ее неотделимости от «эго». Отсюда же следует неразличимость практического и теоретического: когито нельзя получить как перцепцию, его можно осуществить, перформативно сотворить. Еще одно принципиальное этическое следствие: когито требует того, что сейчас принято называть интерсубъективными отношениями. Ведь я не могу извне манипулировать чужой духовностью (так же как и «злой демон» не может сделать меня объектом внушения), чужое эго в принципе мне не видимо сквозь заслон феноменальности, следовательно, я вынужден постулировать равноценный мне субъект общения. Чтобы понять, почему мы имеем дело с этикой, а не только с онтологией, надо принять во внимание, что из когито Декарт выводит онтологическое доказательство бытия Бога. Ведь когито содержит как сознание своего несовершенства, неполноты, так и требование совершенства. Злое же совершенство противоречиво (по крайней мере – для Декарта). В конечном счете Бог оказывается гарантом общения индивидуумов именно «в добре»: в противном случае они оказываются аффективными марионетками телесной субстанции. При всем этом, этика когито не предлагает содержательных предписаний и является формальной конструкцией, что и позволяет говорить о когито как об этической парадигме Нового времени.