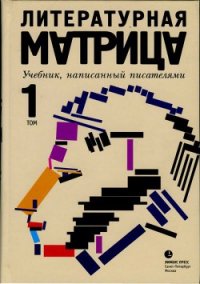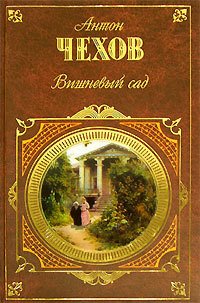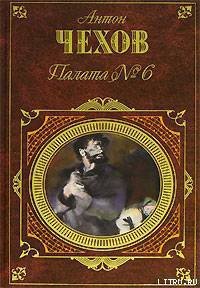Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные полные книги .txt) 📗
Хитрова рынка, совсем не реальных московских проституток, описанных, скажем, Куприным. Нет, для такой театральной постановки нужны девушки кисти Ван Дон-гена: большеглазые, красногубые, у какой чулок спущен, у какой плечико голое, а за ними — тревожное зарево. Впоследствии, когда в качестве отверженных поэт выбрал не условных изгоев, а конкретных пролетариев, он перестал нуждаться в декорациях. Но в своей ранней лирике — именно в декорациях и нуждался.
Нельзя сказать, что Маяковский был не понят, а остальные — поняты; нельзя сказать, что он хотел служить людям, а вот Пастернак, например, — не хотел. Или Цветаева — не хотела. Были поэты-гедонисты [80], вроде Гумилева, Северянина, Есенина, но и они страдали от непонимания: вот, они несут миру новое слово, а мир глух. Дикое одиночество выражено в прощальной поэме Есенина «Черный человек». Но проблема всех говорящих и неуслышанных была общая: они говорили в основном о себе, о своем состоянии души, а подавляющему большинству людей это не особенно интересно. Маяковский отличался от других поэтов тем, что хотел людям говорить о том, о чем интересно именно этим людям. Он готов был пожертвовать своим интересом ради их интересов.
Принято считать, что одиночество Маяковского было особой природы — природы, так сказать, пророческой. С ранней юности он почувствовал призвание взять на себя грехи мира и провозгласил себя апостолом, то есть лицом, наделенным особой судьбой. Не просто писать стихи, как прочие поэты, но служить посредством стихосложения человечеству — вот его стезя.
Однако — и об этом свидетельствуют сами стихи Маяковского — именно этот пункт (служение людям как цель искусства) выявляет много несовпадений и противоречий. Прежде всего, новый апостол собирается служить не всем людям. Некоторых он не любит, и служить им, несомненно, не хочет — он даже негодующе спрашивает: «Вам ли, любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду?!» [81] Понятно, он не собирается служить богачам, капиталистам и рантье. Но штука в том, что другим — тем, которые отнюдь не толстосумы, — он тоже служить хочет избирательно, не всем подряд. Так, Маяковский с ранних стихов отвергает толпу, противопоставляет толпе — поэта, и в одиночестве находит единственное спасение. Он смотрит на скопление народа и вопрошает, глядя на физиономии: «чья не извозчичья?» [82]Очевидно, что толпа не блещет положительными качествами, скопление людей вообще провоцирует животные, стадные чувства — они все вместе куда-то катятся, бездушные хамы, и для сострадания ближнему закрыты их сердца. Толпа — это не привилегированные богачи, толпа — это просто набор обывателей, потребителей, мещан. Эти мещане лишены идеалов и живут по меркам материального мира — ясно, что поэту они враги. Правда, тот же самый Маяковский в других стихах говорит, что готов бросить свое поэтическое ремесло ради толпы — готов «каплей литься с массами». Огромное скопление народу может, как выясняется, вызывать и положительные эмоции — люди, сбившись в кучу, охвачены общим порывом (например, палить помещичью усадьбу), и поэт их приветствует. Вот тут появляется смысловая неразбериха — между массой и толпой разница почти неуловима. Скажем, на немецкий эти понятия переводятся одним и тем же словом, да и по-русски не сильно различаются. Собственно говоря, огромное скопление людей не может быть разным по качествам — люди, они и есть люди, каким словом ни назови большое их количество. Когда в кучу собирается много людей (что на площади, что в трамвае, что в колонне демонстрантов), то все элементы этого сообщества приобретают однородные свойства. Как можно служить массе, а не служить толпе?
Эта путаница так и осталась неразрешенной в стихах Маяковского — более того, из-за этой смысловой невнятицы все его творчество распадается на две части, и связать эти две части невозможно. Поэт истово хочет служить людям, ради служения людям он готов наступить «на горло собственной песне», отказаться сам от себя — это одна сторона биографии. Поэт презирает мещан, ненавидит толпу обывателей, ничего гаже, нежели мещанская мораль, для него не существует — это сторона другая. Однако мещанская мораль присуща любой толпе, мещанская мораль — это просто бытовой интерес, поставленный впереди идеала. Стачки, демонстрации, погромы, очереди — словом, любое людское скопление управляется именно бытовым интересом. Можно принять возбужденный интерес за идеальный порыв, но это недостоверная посылка. Маяковский ждал от скопления людей некоего эмоционального взрыва, равного религиозному экстазу, — и хотел верить, что революция ввергла толпу в этот экстаз и толпа преобразилась, утратила присущие ей черты. Отныне (так полагает поэт) толпа уже толпой не является — толпа стала массой. И эта масса будет испытывать духовные потребности, а не телесные. Маяковский апеллировал к некоей идеальной толпе, к обществу сверхлюдей, людей возможного будущего — а современную ему реальную толпу недолюбливал. В его отторжении от толпы и амбиции нести той же самой толпе свет истины есть перекличка с ницшеанским Заратустрой; впрочем, он сам себя и называет «крикогубым Заратустрой». Подобно Заратустре, он идет к людям, чтобы им служить, но в смирении своем хранит сверхчеловеческую гордость и презрение к тем, которых хочет осчастливить. В его стихах желание распять себя «на каждой капле слезовой течи» [83] благополучно чередуется с призывами «На пепельницы черепа!» [84]. Легко допустить, что те, чьи черепа предназначены на пепельницы, тоже плачут, но, вероятно, именно на их слезах поэт себя распинать не намерен. Жестокости в его стихах принято оговаривать: это, де, так — метафора, не всерьез. Однако какой именно из приведенных примеров — метафора? Черепа для пепельниц действительно использовали, а вот на слезе распять себя невозможно. Может быть, метафора — это как раз насчет слез? Возможно, что и жестокости, и прекраснодушие, и то, и другое — метафоры. Но жестокость выглядит более натурально, «…люди, / и те, что обидели — / вы мне всего дороже и ближе» [85], — восклицает поэт; и этот же поэт говорит: «…выше вздымайте, фонарные столбы, / окровавленные туши лабазников». [86] Конечно, лабазники поэта обидели, но ведь он утверждает, что те, кто обидели, даже дороже прочих, — так неужели именно лабазников простить не может? Когда поэта захлестывает бешенство, его стих делается чеканным и страстным — вдохновение трудно имитировать. «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе!» [87] — сказано так, что не забудешь. А рядом — пожелания пожертвовать собой во имя людей и благие намерения выражены так же страстно: «…душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! — / и окровавленную дам, как знамя» [88]. Чему верить? Да и образ растоптанной души какой-то сомнительный. Что же получается: если поэт, ради служения людям вытащил из себя душу — он стал бездушным? И может ли такой бездушный — людям служить? Коротко говоря, в теме служения людям много неясного — поэт искренне хочет им служить, но люди попались ему крайне неудачные, и он разочарован.
Отношение поэта к Богу также довольно противоречиво. Он назначает себя тринадцатым апостолом, но, чуть что, угрожает Господу расправой: «…тебя, пропахшего ладаном, раскрою» [89]. Никакого почтения в его отношении к отцу небесному не наблюдается — «…с неба смотрела какая-то дрянь / величественно, как Лев Толстой» [90], «недоучка, крохотный божик» [91] и так далее. Иногда поэт забывает о своем апостольском чине и самого себя принимает за Иисуса Христа: «Был абсолютно как все — / до тошноты одинаков — / день / моего сошествия к вам» [92]. Как можно одновременно быть апостолом и Богом — представить непросто. Трудно вообразить, чтобы религиозный поэт (например, Данте) путался в самоидентификации — и самого себя принимал одновременно и за Господа, и за вожатого, и за ученика. Иерархия в представлении средневекового поэта была предельно ясной — у Маяковского же полная неразбериха, здесь и богоборчество, и богоискательство перемешаны в один непонятный продукт. Понятно, что ни о какой конкретной конфессии речь не идет, но иногда не ясно даже, идет ли речь о христианстве. Христианская риторика очевидна, но и поправки к христианству, внесенные поэтом, тоже очевидны. «Мой рай для всех, / кроме нищих духом» [93] — так может сказать лишь тот, кто уполномочен за комплектацию рая, — наделен ли такими полномочиями Маяковский? Какому именно богу Маяковский приходится апостолом? Скорее всего, не Христу, но тому явлению, которое он сам произвел в боги, подобно тому, как себя определил в апостолы. «…В терновом венце революций / грядет шестнадцатый год. / А я у вас — его предтеча…» [94] — сказано просто, но даже в этой простоте много путаницы. Как год может быть мессией, как революция может быть Богом? Какая-то здесь чехарда понятий. Да и вообще, все время хочется спросить: так вы кто, товарищ поэт — апостол, Иоанн-предтеча или Иисус Христос? Уточните, пожалуйста, свои полномочия.
80
Гедонист — здесь: тот, кто считает целью жизни получать наслаждение от самого процесса бытия. — Прим. ред.
81
6 Из стихотворения «Вам!» (1915).
82
7 Из стихотворения «Никчемное самоутешение» (1916): «Улицу врасплох огляните —/из рож ее / чья не извозчичья?»
83
8 Из поэмы «Облако в штанах» (1914–1915).
84
9 Из поэмы «150000000» (1919–1920).
85
10 Из поэмы «Облако в штанах».
86
11 Там же.
87
12 Там же.
88
13 Там же.
89
14 Там же.
90
15 Из стихотворения «Еще Петербург» (1913).
91
16 Из поэмы «Облако в штанах».
92
17 Из поэмы «Человек» (1917).
93
18 Из пьесы «Мистерия-буфф» (1921).
94
19 Из поэмы «Облако в штанах».