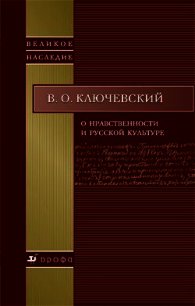Русские мыслители и Европа - Зеньковский Василий Васильевич (читаем книги бесплатно txt) 📗
Таков Достоевский в начале 60–х годов, таков и на исходе своей жизни. Почвенничество осталось в нем неизменным, приобрело невиданно широкий, универсальный характер, вобрало в себя благороднейшие, лучшие мечты человечества, связалось с чувством религиозной избранности России, с ее мессианскими задачами… Синтез все же не удался, мотив почвенничества должен был еще быть ограничен, как это отчасти и находим мы у Соловьева.
Мы подготовлены теперь достаточно, чтобы понять всю ту критику европейской культуры, которую мы находим у Достоевского; нам необходимо войти здесь в некоторые подробности.
«В Англии то же, что и везде в Европе, — пишет в одном месте Достоевский, — страстная жажда жить и потеря высшего смысла жизни». Это доминирующий мотив внешней критики европейской культуры у Достоевского: для него ясна, с одной стороны, вся живучесть нашего «могучего, самонадеянного и в то же время больного столетия, полного самых невыясненных идеалов и самых неразрешимых желаний». Но если Европа полна жизни, полна жизненных сил, то все же она зашла в какой–то безвыходный тупик, из которого не может найти выхода. «В Европе неспокойно, и в этом нет сомнений. Но временное ли, минутное ли это беспокойство? Совсем нет: видно, подошли сроки уже чему–то вековечному, тысячелетнему, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации». «Да, в Европе растет что–то неминуемое», — пишет Достоевский в другом месте. «Европу ждут огромные перевороты, такие, что ум людей отказывается верить». За год до смерти Достоевский писал: «Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного и общего. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней без церкви и без Христа, с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все общее и все абсолютное, — этот созидавшийся муравейник весь подкопан. Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь, и если ему не отворят, сломает дверь». Как бы предчувствуя будущую общеевропейскую катастрофу, Достоевский в той же пророческой статье пишет: «…Я предчувствую, что подведен итог… Симптомы ужасны…
119
Неестественность политического положения в Европе, эти «неразрешимые» политические вопросы непременно должны привести к огромной, окончательной, разделочной войне».
Внутри Европы идет напряженная, неразрешимая борьба, которая поглощает все силы и не оставляет места для положительного творчества. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский очень ярко и красочно рисует мнимое внешнее благополучие Европы, «затишье порядка» в ней и замечает: «…а между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба, борьба насмерть всеобще–западного личного начала с необходимостью хоть как–нибудь ужиться вместе». «Кто кроме отвлеченного доктринера, — пишет он в другом месте, — мог бы принимать комедию буржуазного единения, которую мы видим в Европе, за нормальную формулу человеческого единения на земле?» Еще более резкие слова написал Достоевский несколько ранее: «Став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу для своего благосостояния». Отсутствие внутренней почвы для братства (мотив, очень ярко выраженный у Федорова), глубокое обособление и эгоизм — таковы черты буржуазии, которая отвратительна Достоевскому; не верит он и в другие силы, действующие в Европе. Вот отчего так сильно у Достоевского предчувствие надвигающейся на Европу катастрофы, так мрачно глядит он на европейскую жизнь. «Никогда еще Европа, — пишет он, — не была начинена такими элементами вражды, как в наше время. Точно все подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры…»
Если от этой общей пессимистической оценки Европы у Достоевского, от этой внешней критики ее обратимся к тому, как понимал он внутреннюю сторону европейской жизни, — картина станет еще мрачнее. «Цивилизация вырабатывает в человеке, — пишет Достоевский в «Записках из подполья», — только многосторонность ощущений. и ничего больше». В этом отношении пределы цивилизации не ограничены, это правда, — но ведь параллельно с «многосторонностью ощущений» вовсе не возрастают нравственные силы человечества. Наоборот
— европейская цивилизация, отвергнув Христа, оставляет человека с его бессильной и бесплодной свободой, как бы обнажает хаос, который таится в человеке; цивилизация не в силах справиться с теми трудностями, которые она же сама и создает. Достоевский жестоко и глубоко критикует (в «Записках из подполья») систему утилитаризма, на которой столь многие хотели и хотят построить человеческое общежитие; для Достоевского совершенно ясно, что никакая система «разумного эгоизма» не может создать ничего, кроме «муравейника», что ответить на запросы и стремления человеческого духа, на его жажду и потребность свободы и «собственной воли» не может она. Пусть человек создан «бунтовщиком», как говорит Великий Инквизитор, но для человека нет ничего выше и дороже свободы; всякая же рационалистическая система жизни предполагает в человеке отсутствие свободы как иррационального фактора. Современное мировоззрение не признает свободы в человеке, — потому что оно не признает Христа, но этим оно лишь больше
120
обнажает хаос свободы, который открывается в нас, если мы отходим от Христа. С непревзойденной глубиной и силой Достоевский вскрывает эту темную сторону в европейской душе, этот хаос, который царит в ней. Проблема свободы едва ли не больше всего другого тревожила ум Достоевского, который так глубоко, как, быть может, никто другой во всей истории человеческой мысли, чувствовал правду свободы, ее неустранимость. Но тот же Достоевский хорошо понимал всю трудность свободы в натуральном порядке жизни, всю трудность свободы вне Христа. Для Достоевского весь клубок загадок, противоречий, трудностей, которыми так опутан европейский человек, проистекает от того хаоса свободы, который открылся в европейском человечестве благодаря тому, что оно отошло от Христа. Исказилась и изменилась вся перспектива духовной жизни, заколебались самые основы моральной жизни, — и европейский человек остался один со своей бесплодной и бессильной свободой. Отсюда все эти безумные шатания, обнажение преступного начала в человеке, отсюда и полное бессилие европейской культуры совладать с хаосом, ею же порожденным. Если нет Бога, если нет бессмертия, — а на этом стоит современная европейская культура, — то «все позволено», нет никаких пределов человеческой воле, нет собственно и «преступления». С двух концов подходит европейское сознание к этому страшному выводу. Научное миропонимание, отвергая свободную волю, утверждает, что собственно «преступления» нет, нет и греха, а «есть лишь голодные». Отрицание свободной воли делает невозможным и ненужным нравственный процесс в человеке, — но к тем же итогам, к тому же разложению нравственных сил в человеке подходит и другое течение европейского сознания — то, которое отвергло Христа, забыло Бога. Глубочайший аморализм — вот каковы итоги европейской культуры, и от этого уже не отойти, этого нельзя скрыть. Религиозное одичание европейского общества, забвение Христа и Его заветов лишило европейское общество тех здоровых сил, какими оно жило, — и оттого все больше выступает внутренний хаос в человеке. Достоевский не боялся заглянуть в эту темную жуткую глубину человеческой души — и здесь он увидел бесповоротный и безграничный эгоизм и эгоцентризм, погруженность в самого себя, угасание братского отношения к другим людям. Оттого Достоевский так упорно обличал невозможность и неправду социализма, построенного всецело на предпосылке иной человеческой природы, — не той, какую фактически находим мы в Европе, а той, для которой братское отношение к людям диктуется внутренним влечением сердца. За отсутствием подлинного и действительного братства в душе западного человека социализм, по Достоевскому, стремится разрешить стоящую перед ним задачу насильственным путем. Не сразу Достоевский уяснил себе генеалогию этой идеи насильственного спасения человечества, но для него давно был ясен весь утопизм, вся нереальность тех построений, которые осуществимы лишь при наличности братского отношения людей друг к другу, но которые, за отсутствием такого, стремятся насильственно заставить человечество организоваться в новую форму. Фантастичность социализма есть самое убийственное возражение, которое можно