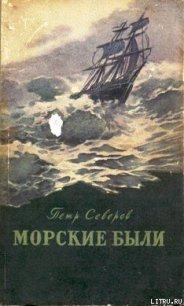Карта родины - Вайль Петр (книги хорошего качества .TXT) 📗
Вопроса о зарплате я ждал с ужасом. Ясно, что надо врать, но как именно? Настоящей сумме не поверят ни за что и сочтут презренным хвастуном, но и слишком занизить опасно: это же Восток, уважать не будут. Пока еще уважают, что видно по разным признакам, так что есть шанс отсюда поскорее выбраться — не вперед уже, так хоть назад, в Махачкалу, поесть и поспать бы.
Только что дал досадную промашку Ахмед и чуть все не испортил. Он вообще симпатичный и стойкий. С ним, единственным из нашей компании, я был знаком прежде. Мы как-то вместе ночевали в гостинице грозненского аэропорта «Северный», он же имени Шейха Мансура, где были выбиты все стекла, и мы закладывали окна матрацами, как огневую точку, только без бойниц. Одеяла давно украли, и накрывались мы тоже матрацами — вполне чаплинский номер. В мартовскую ночь спасал только коньяк из разбомбленного винзавода, который повсеместно продавался за гроши. Ахмед, правоверный мусульманин, пить даже в этих условиях не стал, тихо простонал всю ночь и на следующий день разогнулся только к полудню. В хасавюртском ОВД он держался разумно и тактически правильно: доверительно вставлял арабские цитаты из священных текстов, невзначай доставал из кармана и задумчиво перелистывал Коран. Дагестанские милиционеры, знающие ислам в пересказе, затихали и переглядывались. Но на исходе третьего часа Ахмед вдруг стал рваться к телефону с криками: «Дайте позвонить Расулу Гамзатову, он мой друг, я у него жил в гостях!» Это чистая правда, Ахмед знает Гамзатова много лет, но никто и не подумал взять в руки его записную книжку, никто не засмеялся, не возмутился, даже не оскорбил Ахмеда. Его молча обдали гадливыми взглядами: до какой же лживой низости может дойти в отчаянии человек. «Ты бы еще пророку Мухаммеду предложил позвонить», — укорил я Ахмеда по-английски. Два капитана строго спросили хором; «Что вы ему сказали?» Говорю «Да что не надо по пустякам большого человека беспокоить». Два капитана махнули рукой.
Наша репутация сдвинулась к нулю, но тут явилась тема зарплаты. «Сколько у вас выходи в месяц на руки?» Господи, что же сказать? «Тысяча долларов». Майор кивнул старлею: «Посчитай», но тот уже сам выписывал столбики на обороте старых протоколов. «Выходит больше, чем все наше отделение», — доложил старлей. Лейтенант громко вздохнул. Два капитана встали и закурили. Ситуация закачалась на гамзатовской грани, но тут негромко и веско выступил майор. «Хорошая у вас зарплата, — сказал он. — Вы, наверное, высшее образование получили?»
Что да, то да, Московский полиграфический, редакторский факультет, очень ценится в Штатах. «У вас семья большая?» — с надеждой спросил лейтенант. Через полчаса нас собрались отпускать: «Вы можете ехать, а гражданку задержим до выяснения». Удивительно, но на хрестоматийную красавицу Марию, с белой матовой кожей и огромными карими глазами, милиционеры смотрели сквозь. Она была, возможно, не снайпер, но и не женщина. Мы с Ахмедом поднялись разом, как два капитана: «Неужели кавказские мужчины могут подумать, что мы оставим девушку, которая нам доверилась и села к нам в машину?» Офицеры сдвинулись в кучку, пошептались, слышалось не то «зарплата», не то «Гамзатов», потом нас всех повели гурьбой на двор, и в половине четвертого ночи мы уже жадно ели поджаренную на жутком комбижире яичницу, взобравшись без лифта на одиннадцатый этаж махачкалинской гостиницы «Ленинград».
ВИНО КАХЕТИИ
Осенью 1975 года я проехал Грузию с востока на запад. Когда снова оказался там через четверть века, изменилось многое. Пришла независимость, прошла война, пошла нищета, и еще вернее звучали давние пастернаковские строки:
С восхищением узнавался тот же город, деревянные дома старого Тбилиси, где-нибудь в районе храма Метехи, на фоне древней крепости Нарикала: мало есть городских видов такого обаяния. Но и такой тревоги: сколько еще продержатся между небом и землей рассохшиеся ветхие балконы и галереи, свисающие со склонов гор, — чинить дома не на что.
При всех переменах безошибочно узнавались те же люди. Зашел в кафе на улице Бараташвили, у площади Свободы, бывшей Ленина, от которой начинается проспект Руставели. Женщина средних лет подметала пол. «Вы еще не открыты? — А что вы хотели? — Кофе. — Я вам сварю». Отставила метлу и сделала изумительный кофе: в Тбилиси, в Грузии везде удивительно вкусно, в любом подвальчике, у любого придорожного мангала. Выпил кофе, похвалил, спросил, сколько должен, и услышал то, что можно услышать только туг: «Ничего не надо, мне приятно было вас угостить». Красивое достоинство и простое благородство, которые встречаешь в средиземноморской Европе. Видно, та же живая волна ударяет в берег Колхиды, пройдя от Геркулесовых столбов через Геллеспонт, Пропонтиду, Боспор.
Земля особая вообще, особая для русского. Перечитав то, что увидел и описал тогда, в 70-е, поразился: настолько отдельной и самостоятельной воспринималась Грузия, что я, не обинуясь, называл страной составную часть тоталитарного государства, казавшегося монолитом, о распаде которого в те годы не грезил никто. Какое это было изумление, какой урок.
Зимой еще туда-сюда. Вспоминал, правда, то тяжесть грозди в руках, то кровавый цвет куста кизила, то звук чонгури, то воздушную терпкость
«Киндзмараули». Но все как-то так — пятью чувствами, вроде ты сам, память твоя — ни при чем.
Но вот пришла весна. Пришла, прошла, и идет уже лето, и теперь каждый день встает передо мной Кахетия.
Я думаю: почему она? Ведь не всю жизнь я просидел в Риге — и захлебнулся вдруг красотами юга. Слава Богу, поездил, посмотрел.
Лихский хребет разделил Грузию, оставив к западу — горы, субтропики, море, к востоку — холмы, виноградные долины. К западу — бойкие имеретинцы, мингрелы, гурийцы, к востоку — спокойные карталинцы, кахетинцы.
Так почему же все-таки Кахетия? В тот раз я проехал всю Грузию, Кахетия была вначале, Р тогда я еще не знал, но теперь-то знаю, что было потом помню и великолепие Тбилиси, и фаэтон на набережной Батуми, и свежий ветер Рикотскс]го перевала, и пропахшие кофе сухумские улицы, и мандариновые рощи Пицунды, и лебедино-магнолиевую роскошь Гагры. Но все это я вспоминаю, когда захочу. А само вспоминается лишь одно—
Кахетия. Словно, выпив ее приворотного вина, впитал ее частицу, и она, частица эта, так и живет во мне, не очень-то со мной считаясь.
… Слева визгнули «жигули», и черноусый человек спросил: «В Гурджаани?»
Я кивнул, и после ехали молча.
Мы выехали на Кахетинское шоссе — удивительное шоссе. Едешь, как по одной длинной улице, и только таблички оповещают о смене одной деревни другой. По обе стороны — парча винограда, дубы, переплетенные с гранатом, фотографии в рамках на скорбных домах, и справа иногда блеснет потерянная в широчайшем весеннем русле узенькая Алазани.
Сентябрь, было сухо и солнечно, о дождях забыли. Шел ртвели — сбор винограда. Важнейшее событие года.
Мы въехали в Гурджаани. «Покажу город», — спросил или сказал водитель.
Я рассыпался: если не трудно… Мы ездили по кривым в обеих плоскостях улочкам, по новым улицам — широким и прямым, и остановились у большой арки. Водитель торжественно сказал: «Ахтала. Всемирно популярный курорт. Грязь», и мы вошли в неземной сад. Здесь на небывалых растениях распевали неслыханными голосами птицы и сидели на скамейках отдыхающие в шляпах с дырочками, щурясь на блики магнолий.
Анзор Алексеевич (кое-что я узнал все-таки) сказал, что ему надо заглянуть к родне, а потом он вывезет меня на шоссе. Мне спешить было некуда состояние редчайшее и блаженнейшее.
Теперь мне кажется, что движение началось сразу, как только мы появились в воротах дома Медулашвили. Что старик в глубине двора — дядя Алексей— сразу уселся рубить баранину, сын его Анзор понес табуретки, а невестка Цицино с кувшином полезла в погреб. Так или иначе, знакомиться мы стали, уже сидя под инжиром и абрикосом, за столом, уставленным цветами, зеленью, сыром, помидорами, вином.