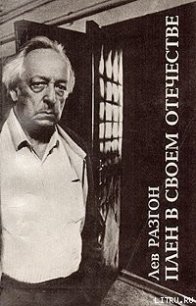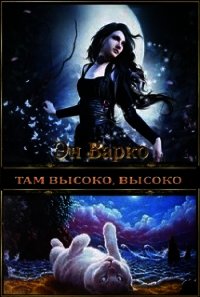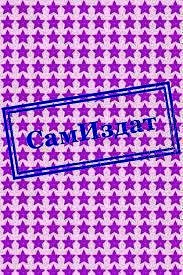Избранное. Логика мифа - Голосовкер Яков Эммануилович (книги бесплатно читать без .TXT) 📗
«Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось на сырую землю».
Оно будет вечно всякий раз умирать и именно так, как оно умирает у Толстого. И очеловеченность этого умирающего дерева с его человеческим предсмертным испугом также останется при нем навсегда. Я видел в юности дерево в поле, расщепляемое грозой. Этого дерева уже нет: от него осталось только лично мое воспоминание. Но это воспоминание связано не с мировой культурой, а с моей биографией, и только через меня оно еще может смутно существовать как далекое воспоминание о впечатлениях далеких дней моей юности. Творческая имагинация здесь не участвует. Здесь еще нет искусства.
Дерево в поле на пейзаже Коро, умирающее дерево в рассказе Толстого и есть реализм, есть имагинативная действительность — действительность культуры, чем и является реализм. Если же мы в пейзаж живописца будем вклеивать фотографии: фото дерева, фото куска поля, фото фигуры пастуха или коровы, то пейзаж перестает быть художественным реализмом, а становится монтажом натурализма, отражением натуры, ибо, повторяю, реализм искусства есть имагинативный реализм, а не фото-натуральный реализм.
Красивая натурщица может эмоционально взволновать чувство мужчины-зрителя сильнее, чем ее портрет в образе Венеры. Но красота натурщицы взволнует именно биологическое чувство зрителя. Оно может захватить и воображение зрителя, но только в плане сексуальном — жаждой обладания или мечтой об обладании этой красивой женщиной — натурщицей. Портрет же этой натурщицы как образ Венеры, для которого она позировала, взволнует зрителя и его воображение иначе: он взволнует воображение эстетически, т. е. взволнует его образом как смыслом красоты, воплощенной в богине Венере. Этот ее портрет в образе Венеры запомнится зрителю не как портрет натурщицы, а именно как образ «Венера», и этот образ будет существовать для него, быть может, в течение всей его жизни и останется жить в веках, в то время как образ натурщицы забудется. Этот образ «Венера» получает таким образом имагинативную реальность и бытие, ибо «бытие» может быть только имагинативным, может быть только предметом разума воображения, в то время как «быт» есть то же, что чувственно воспринимаемая природа: например, красивая натурщица. Этот быт и эта натурщица относятся к натуральному, пока под пером какого-нибудь Достоевского или Гаршина [75] этот «быт» с натурщицей не превратится в трагедию и тем самым также предстанет «реализмом», т. е. имагинативным бытом, получившим право быть «бытием».
3. Интересная реальность
Эта реальность называется имагинативный реализм. Мы живем в кругу «особо близких», и эти «особо близкие» обладают не существованием, а обладают для нас полным бытием. Эти «близкие» прежде всего герои литературных произведений — герои романов, поэм, драм… Это также и «авторы» таких произведений, создатели высших ценностей культуры — художественных творений. Когда мы говорим запросто «Татьяна», или «Наташа», или «Вера», наш слушатель знает, что это Татьяна Ларина, Наташа Ростова и Вера из «Обрыва» Гончарова. Все они из круга «особо близких» мне и моему слушателю. Они не умирают. Они бессмертны. Они окружают меня и в мой предсмертный час, и я знаю: они не живут неведомой загробной жизнью, они живут рядом со мною вечно, даже тогда, когда они умирают на страницах романа. Таков интересный случай мнимой смерти — смерти иллюзорной. Таковы и их «авторы». Кто может назвать в России человека, для которого Пушкин умер? В то время как многие существующие поэты уже мертвы без могилы, шагая по тротуарам столицы. Они мертвы не потому, что их не печатают. Наоборот, — чем их больше печатают, тем они мертвее. И еще раз «наоборот»: часто те, которых не печатают, те именно живут, хотя бы их тела были сожжены. Не правда ли: интересная реальность.
Живут бессмертной жизнью не только герои художественных произведений и славой увенчанные имена авторов. Живут и идеи, созданные разумом воображения мыслителей, — идеи философских произведений, воплощенные в смыслообразы. Они тоже наши близкие из бытия, бытия культуры, за которое иной автор жертвует своим существованием, настолько для него высока ценность этого «бытия культуры». И ведет его на жертву самый высший инстинкт человека — инстинкт культуры, который в нем сильнее инстинкта самосохранения. Созданным им творением он обретает «бытие» в культуре.
Как ни странно, но эти «близкие-из-бытия» им многим ближе, чем их родные, друзья и знакомые. Эти особо близкие из бытия для них реальнее, чем близкие из существования.
Итак: есть близкие-из-бытия — имагинативные образы и идеи с их смыслообразами, созданные разумом воображения, и есть близкие-из-существования — живые существа нашего обихода и быта.
Рядом с ними есть и близкие предметы, особенно иные книги и картины, которые также бывают для нас большей реальностью, чем реальность вещей нашего быта, даже порой бывают для нас реальнее, чем пища: увлеченные книгой, мы забываем об обеде. Иногда мы не покупаем хлеба, а покупаем на последние деньги книгу. Это значит, что высший инстинкт культуры оказался в нас сильнее низшего вегетативного инстинкта. На удивление всем скептикам это случается с каждым из нас. Так могуче наше воображение. Так интересна для нас его имагинативная реальность.
4. Романтика и классика как смыслообразы художества и как категории эстетики
Мы берем термины «романтика» и «классика» как два смыслообраза, две идеи, которые могут быть рассмотрены и как категории эстетики. Характерные черты смыслообраза «романтика» это — абсолютность, сверхъестественность и сверхнорма во всем внешнем и внутреннем: в страсти, в морали, в уме, в поступках, особенно в жертвенности и героизме, в красоте и уродстве, в низости и злодействе, в сострадательности и равнодушии, а также в неожиданном, подчас трагическом повороте в противоположную сторону — «наперекор», когда дьявол превращается в ангела, а ангел в дьявола. И наконец, как особая чёрта преимущественно немецкой романтики: глубина неопределенности. Еще одна особенность романтики как смыслообраза: ей если не все, то по крайней мере очень многое позволено в силу того, что «романтизм» заранее морально оправдан, т. е. для героя-романтика есть всегда романтическое оправдание. Характерные черты смыслообраза «классика» (отнюдь не в смысле античности): определенность, четкость, цельность и мера — с тенденцией к «образцовости» — к норме, к канону. «Классика» как смыслообраз антистихийна.
Цельность, например цельность характера, присуща и романтике, но только в порядке грандиозности: «грандиозная цельность».
Если взять героев Гюго и Дюма, а не только романтиков Вальтера Скотта и Байрона, и рядом с ними реалистов-классиков Флобера и Бальзака, Гоголя и Шекспира, то мы поразимся, как мало среди созданных ими героев «просто людей» — обывателей, по сравнению с персонажами хотя бы Мопассана и Чехова, и как много у них образов, исполненных с ног до головы «романтики». Не менее поразительно, до чего, например, мало романтики у подлинного классика реализма Толстого и до чего ею, этой «романтикой», полон Достоевский. Известно: Достоевский стихиен, Толстой — антистихиен, хотя он вечный борец с собственными страстями и их разоблачитель.
Не удивительно ли, что в художественных феноменах литературы, которые представлены нам как классические образцы реализма, наличны и нередко даже мощно выражены и «романтика», и «классика». И хотя и реализм, и романтика, и классика считаются равноправными категориями эстетики и стиль их имеет свои особые стилевые признаки как стиль романтический, как стиль классический и как стиль реалистический, однако нам раскрывается нечто иное, а именно то, что смыслообразы «романтика» и «классика» совершенно иной природы категории, чем «реализм». Раскрывается, что произведение, определяемое как глубоко реалистическое, оказывается сплошь романтическим, ибо его реализм на самом деле есть только имагинативный реализм, в котором свободно вмещаются и романтика, и классика.