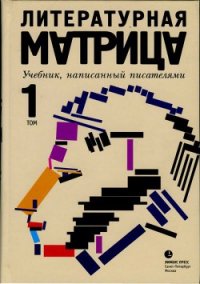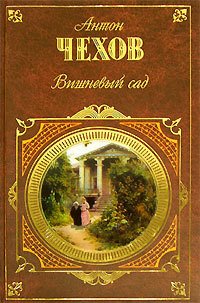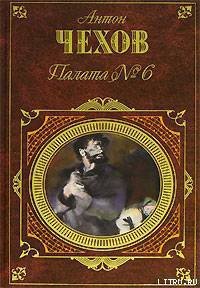Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные полные книги .txt) 📗
Потому что нашей сути, нашему предназначению нет никакого дела до того, что мы страдаем нимфоманией или неумением любить (а сами кричим, что любим безмерно — так, что адресату нашей любви этого просто не вынести)… Нашей сути, нашему кощееву яйцу (а в нем, как известно, иголка) есть дело только до того, смогли ли мы эти свои качества переплавить в тигле стихотворения (а для непишущих — в тигле самой живой жизни) так, чтобы хоть что-то самим — пусть на короткий гаснущий день — понять о себе настоящих (а настоящие — мы совсем другие), перед тем как опять свалиться в эту бездну.
Ибо неважно — плох ты или хорош. Эгоистичен или нет.
Важно: позволил ты себе быть таким или нет. Разрешил ли себе. Цветаева вот — разрешила.
Принято считать, что Цветаевых у нас две — до эмиграции и после. Я, правда, не совсем в этом уверен (человек ведь река, а не два берега), но если согласиться с таким «делением», то «первая» Цветаева, по-моему, как ни один другой поэт умела передавать запах пыли (например, Пастернак — это скорее запах дождя, занавесок, оттепели — то есть влажных запахов).
Но не — чердачной пыли, затхлой и скучной, а земной. У дороги. Когда вокруг столбы солнца, а по обочине городские лопухи или пригородная земляника. И в этом ее секрет. При всем якобы очевидном трагизме «первой» Цветаевой, она совсем не трагична, а «всепри-имна». Даже легкомысленна. И уж точно никого не упрекает. Потому что — незачем.
Этот же запах пробивается и в двух строфах стихотворения 1919 года «Тебе — через сто лет», о котором я скажу позднее, — запах пыли (никак прямо не упомянутый), от которого щемит сердце:
Впрочем, может, его, этого запаха пыли и земли, там и нет. Но я его чувствую. До такого наваждения, что когда уточнил дату написания стихотворения, то удивился: оно помечено августом, а я явно ощущаю апрельскую пустоту — с характерным запахом подсохшей, но еще голой земли.
А из стихов «второй» Цветаевой потом этот запах — тоски и счастья — улетучивается. Возможно, оттого, что Цветаева в эмиграции стала писать не словом, не даже полсловом, а слогом (ее свидетельство) [258] — а слог ничем не пахнет. Или оттого, что ей не нравился запах автобусов, блошиных рынков, чужих городов и всего остального слишком человеческого (она, кстати, в отличие от большинства ее великих товарищей и товарок, на мой взгляд, не была космополитичной: не тосковала по мировой культуре, как Мандельштам, не рвалась в Париж, как Ахматова, не была инфантильным урбанистом, как Маяковский). Или оттого, что она просто разучилась быть счастливой.
Но исчезло не только это.
Читая «вторую» Цветаеву (что мне нравится гораздо больше, чем читать «первую»), ловишь себя на ощущении, что «первая» жила как-то честнее и справедливее (пусть и интуитивно). То есть как будто все видя с разных сторон, глядя сверху, а не только со своей собственной стороны и из своего угла (каким бы прекрасным он ей ни представлялся: ибо нет прекрасных углов, все они затхлые).
Даже в раннем стихотворении «Легкомыслие! — Милый грех…» (1915) есть уже это смотрение на всех (и себя в том числе) сверху. Какое-то равноудаление от всего там просвечивает — через все «я», на которых автор так явно настаивает. Вот это стихотворение.
…Чего ж тут говорить — стихотворение альбомное, подростковое. Но вот это напряженное ощущение счастья (даже в такой незначительной лисьей черте, как легкомыслие) — по-моему, стоит многого.
Написал «незначительной лисьей черте» и вдруг вспомнил, как уже упомянутая Надежда Яковлевна Мандельштам, когда писала о нечеловеческом опыте 30—40-х годов XX века, вспомнила про одну женщину, которая все свое несогласие со сталинским режимом сводила к женскому и легкомысленному «не хочу». «Не хочу», — говорила она, когда ей предлагали написать донос на своих близких людей, угрожая пытками. «Не хочу», — когда ей предлагали выменять свободу на осведомительство, отправляя в лагерь. «Не хочу», — говорила она всему миру, когда по ней прошлись катком репрессий, отняв половину жизни. «Не хочу», — говорила она, — и выиграла. [259]
И вот это — уже свое — не хочу «первая» Цветаева, по-моему, долгое время несла в мир весело и осмысленно. И трудно объяснить, когда (не справившись то ли с уходом женской жизни, то ли с социальными катастрофами, то ли со своим своеволием, то ли со всем сразу) «вторая» Цветаева превратила легкое не хочу в лишенный объема упрек. Как будто не вытянула это свое не хочу. Переделала в «нет, хочу — и отдайте».
А может, она просто «разрешила» это себе?
Имея на это право, как и любой из нас, когда мы начинаем топать ногами на мир и посылать его в Европу и в почечуй.
Как бы то ни было — так началась «вторая» Цветаева. Признанно «гениальная».
Жаль, что мы не увидели еще и «третью». Которую мы могли бы назвать уже «великой». (Впрочем, какое ей дело, как мы ее назовем. И какое дело нам, как нас назовут после смерти? Жаль ведь не отсутствующих «называний». Жаль неосуществленного опыта, который нам мог бы помочь. Но и здесь нечего поскуливать — значит, мы можем поставить этот опыт самостоятельно.)
257
Стихотворение 1913 г. — Прим. ред.
258
«Ваша стихотворная единица, пока, фраза, а не слово. (NB! моя — слог)» (Из письма Цветаевой к Н. П. Тройскому, 1928). — Прим. ред.
259
«…Следователь (…) объяснил, что с нее требуется только пять имен, а это минимум. Если она их не назовет, ее отправят в Лефортово и он сам „займется“ ее делом… (…) Она молчала, а следователь выжидал. Наконец он спросил, что она надумала. Она ответила: отсылайте в Лефортово… „Пусть в Лефортове я назову собственного отца — это вы вынудите меня. А здесь, добровольно, я никого назвать не могу…“ („Я не сказала „не хочу“, я сказала „не могу““, — недавно повторила Н. Н… „Не могу“ кажется ей не столь высоким актом, как „не хочу“.)» (Мандельштам Н. Я. Вторая книга). — Прим. ред.