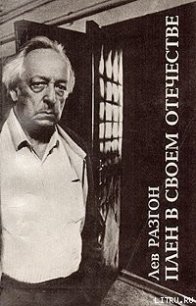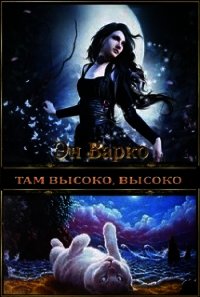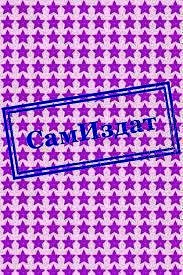Избранное. Логика мифа - Голосовкер Яков Эммануилович (книги бесплатно читать без .TXT) 📗
7. Интересное как страстность мысли и как игра
Существуют интеллектуальные натуры, у которых интеллект сладострастничает и ищет в умственном и в духовном сладострастного удовольствия. Оно ничуть не связано с чем-либо сексуальным. Оно именно «интеллектуально-сладострастное» [89]. Оно имеет отношение к «мысли» и «стилю». Это отнюдь не западное явление как черта «умственных гурманов». Это явление и восточное, притом исстари существующее на Востоке и даже более восточное, чем западное, принимая во внимание конвенциальность (условность) восточного стиля — и в литературе, и в искусстве с его условной фантастической декоративностью. Я бы отметил хотя бы такую особенность Востока, как сладострастничание ирреальностью или абстракцией. В русской старинной иконописной живописи, созданной под воздействием Востока, иногда также встречается отзвук сладострастия ирреальностью и условностью, но в нем обычно имагинативно-реальное всегда пытается преодолеть абстрактность, подобно тому, как у Рублева нечто до Ренессанса преодолевало Восток и вместе взятое создавало у него свое прекрасное, а никак не византийское, и не ориентальное.
В основе всей этой страстности мысли, особенно у мыслителя, лежит неистовство воображения. Одна из форм этого неистовства воображения (которое свирепствовало по их собственному признанию и в Гегеле, и в Ницше) не только есть интеллект как воля — к — познанию, к проникновению в тайну ума и устроения мира космоса, но и наслаждение от интеллектуального общения с мыслью и космосом, наслаждение анализом и синтезом, равно как и наслаждение от игры мысли и, наконец, наслаждение, испытываемое от мощи мысли, которое часто именуют наслаждением — мощью человеческого духа.
Все это хотя и относится к интеллектуальной чувственности, на самом деле оно протекает в имагинативном плане, то есть в плане воображения и проистекает от нашего высшего инстинкта культуры. Это — деятельность не рассудка-резонера, не его здравого смысла, а деятельность инстинктивная, но уже на том высоком уровне мысли, где создаются ценности духовной культуры и где власть имагинативного абсолюта неоспорима. Только «чувство» имеет смелость оспаривать эту власть. Но чувство может оспаривать все и всегда, и тем не менее оно даже своим оспариванием служит только топливом воображению, лучевой энергией — его свету. Мыслитель всегда имагинативист, если он философ. И какой подлинный мыслитель променяет свободу авторской мысли, то есть свободу творческого воображения и познания или право на высказывание истины, на любые блага мира сего? Здесь «променять» означает «потерять» смысл своего существования и взамен получить бессмыслицу, то есть скуку. Что ему как интеллекту скучно? — ему скучно лгать. Здесь «лгать» понятие особое, для многих непонятное: в чем здесь ложь. Здесь «ложь» означает штамповать. Мыслителю скучно выполнять интеллектуальную нагрузку банальности, как общеобязательную повинность гражданина мысли.
Мыслителю скучны все вывески, все паспорта, все медали, все чины, все монументы, все мундиры — все, пожалуй, кроме пожарных. В касках и одежде пожарных есть поэзия средневековья — и в их бешеной скачке, теперь в автоезде, видна тысячелетняя удаль человека. Эта удаль увлекает мысль на постижение непостигаемого. Кто по-настоящему, а не по-рекламному, знает о подвигах постижения мысли мыслителем в ночной тишине, когда все закрыли глаза и ушли в сон от слов и выкликов, от торжества десяти тысяч или трильона дел и когда только мысль мыслителя находит слова познания, которые день не слышит.
Впрочем, что «сейчас» эти ночи и эти «мыслители»! Их примут сейчас за романтику прошлого. Пусть так.
Откажемся даже от тихой патетики воздаяния мыслителю за мысль. Ограничимся рассмотрением страстности мысли, интеллектуального сладострастия как явления «интересное».
Есть наслаждение от понимания. Радость осмысления — не просто радость узнавания, радость удовлетворенного любопытства.
Интерес к интеллектуальной игре есть частный, но повышенный интерес к игре вообще, связанный с деятельностью воображения, однако не всегда связанный со страстями в обычном понимании. Страсть интеллекта — особая страсть. Интерес к игре, особенно к игре в плане культуры, культурного наслаждения, может быть только эстетическим интересом, и если даже этот интерес принимает страстный характер, его страстность остается тем не менее только интеллектуальной страстью, а не чувственной, хотя мы ощущаем ее чувственно. Таков и интерес к фантазированию, когда «фантастическое» выступает как «интересное». Восклицание: «Какая фантастическая голова!» — означает: «какая интересная голова» (по содержанию, а не по внешности), но никак не означает: «какая бессмысленная голова». Здесь фантазия есть игра, за которой забываешь не только о реальных выгодах жизни, но и об опасности — даже о смертельной опасности. Фантазия оказывается сильнее инстинкта самосохранения, потому что фантазия — работа воображения, а воображение также инстинкт и притом высший: он — инстинкт культуры, он выше и сильнее, чем инстинкт самосохранения. Разве перед нами не сильный урок, когда политический романтик, революционер-фантазер, дает у Гюго такой урок анималитету лавочника с его жаждой самосохранения. Виктор Гюго дал этот урок очень многим в главе романа «Отверженные» «Баррикады», где фантазия иных романтиков оказалась сильнее их жажды жизни и где, играя со смертью, смертью героя погиб вместе с ними чудесный парижский гамэн [90] Гаврош.
Такого рода «интересное» увлекает нас в арабских сказках с их фантастикой и игрой в сверхъестественные ужасы и таинственные загадки, где даже «грандиозное», вроде гигантских джиннов, носит только характер «эстетически-ужасного», а не морально-ужасного, отвратительного, вроде образа Ганса Исландца того же Гюго. Отвратительное не есть «интересное». Малюта Скуратов не есть «интересное». Змея интересна — гад неинтересен: он мерзок. Он вне эстетики. Он и вне философии. Я допускаю психологию гада, но не допускаю возможность «философии гада», гаду нет дела до истины. Он может только рассуждать и рассуждать гадко. И если Валерий Брюсов предложил как-то пожалеть бедного гада, то это было не более, чем выражение его презрения к низости иных, якобы высокомыслящих лицемеров.
Конечно, и чувственная игра интересна. Любовь-страсть захватывающе интересна. Эротика может быть утонченно интересной. В эту игру вплетается множество интриг — и жизненных (от обстоятельств), и придуманных эротической игры ради. Тут налицо и игра самолюбий: борьба «его» и «ее» самолюбия, состязание самолюбий соперников, и еще, и еще… Однако игра самолюбий есть и нечто самостоятельно-интересное: своя особая игра. Мы даже говорим: «игра в самолюбие». Но «интересное» любви (когда она не просто спаривается) как удовольствие есть часто не только чувственное наслаждение, а есть наслаждение чувственное плюс наслаждение интеллектуальное: оно двойное. Эротика тела без эротики ума натурам интеллектуальным приедается, если эта эротика — не бегство от интеллекта к природе, как это у Оленина-Толстого в повести «Казаки».
8. Интересное и смешное
То, что смешно, то не интересно, а только забавно. Смешным всерьез увлечься нельзя. Им можно только баловаться. Со смешным шутят. Остроумие же — интересно. Оно есть также само по себе «интересное». Соль остроумия высоко ценится: недаром «аттическая соль» — высшая оценка остроумия.
9. Интересное и циничное
Я здесь не имею в виду «высокий цинизм», то есть искусство подсматривать под все идеалы человечества и под все табели рангов морали. Я не имею также в виду вульгарный цинизм римского циника-паразита и прихлебателя с его кокетством римским хамством — то, что называется «низкий цинизм». Я говорю о цинизме принципиальном, тонком, расчетливом и беспощадном, то есть по своей сути принципиально-беспринципном, о злом и гедонистическом цинизме, ибо этот подлинный циник испытывает наслаждение и даже сладострастие от своего мерзкого цинизма, который способен на все. Его единственная цель — использовать, загадить и оставить свою жертву в дураках, но при этом так, чтобы загаженный это чувствовал. Князь — отец Валковский — из романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» — может быть выставлен как лучший образец такого цинизма, но никак не Яго. Яго — только идеал интригана. Он вовсе не тонок, и он мстит за обиду — ему везет. Князь сам обижает и вне обид. Ему не обидна даже пощечина. Он только избегает одного: быть поколоченным.