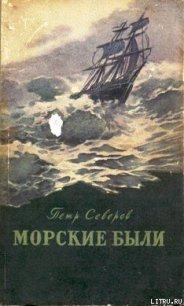Карта родины - Вайль Петр (книги хорошего качества .TXT) 📗
В баню водили по четвергам, в соответствии с общероссийскими нормами гигиены. Даже в книге «Домоводство» предписывалось «Раз в неделю мыться в бане», в более прогрессивной «Твой дом, твой быт» предупреждали: «Горячей водой следует пользоваться не чаще 1 — 2 раз в неделю». Исконно русская оппозиция «духовное — материальное» давала, как следствие, частную оппозицию «чистота духовная — чистота телесная». Повышенное внимание к гигиене выступало признаком чужака: у зощенковского американца «портянки небось белее снега». «У нас нет умывальника, мы поливаем друг другу из кружки во дворе», — с достоинством говорит девушка в «Молодой гвардии» немцу-оккупанту, который «дважды в день, утром и перед сном, мылся с головы до ног горячей водой». На моей памяти практиковалось не обливание из кружки, а умывание из рукомойника: на дачах, которые родители снимали на взморье, водопровода не было.
Слово «чистюля» служило одним из синонимов мещанина, не заботившегося о чистоте чувств и помыслов. Героиня фильма «Три тополя на Плющихе» рассуждает: «Каждый день мыться — так лодырем станешь». В позитивистском обществе гигиенические запросы требовали дополнительного оправдания. В «Домоводстве» объяснялось: «Чтобы сохранить чулки, ноги нужно мыть каждый день», «Волосы человека не только защищают голову, но и являются большим украшением». Через два поколения в «Календаре для мужчин» на 1993 год советовали, чтобы избавиться от грязи под ногтями, «простирнуть какую-нибудь мелочь, вроде носков».
У нас на Ленина, 105 ванная появилась, когда мне исполнилось лет тринадцать. До тех пор еженедельно, может быть тоже по четвергам, ходили с отцом мимо псевдоготической церкви св. Гертруды, в обиходе — Красной церкви, в баню на улице Таллинас.
Эту российскую институцию, о которой положено говорить с придыханием и закатив глаза, я так и не полюбил. Наверное, как раз из-за тех еженедельных походов. Мне не нравились очереди за маленьким билетиком вроде трамвайного, резкий запах пота в предбаннике, грязный халат непременно хромого фамильярного банщика с его однообразными шутками: «Заходи, заходи, раз в год не страшно!», серая одежда и убогое белье в узких шкафчиках, кривые оцинкованные шайки с черными номерами, скользкие ступени полка в парной, надсадные крики «Ох, хорошо!», обычай с наслаждением нюхать растрепанные худосочные веники, просьба незнакомых людей потереть спину, больше всего — сами эти некрасивые голые мужчины с заметными физическими изъянами и неталантливыми татуировками.
Мои однополчане в бане пели Ободзинского и Миансарову, плескались и хохотали. Они вообще были добродушны. Пресловутой дедовщины не помню, побои и унижения встречались редко и считались ЧП. То, что салага должен мыть сортир и ходить в наряд на свинарник, а старик нет, воспринималось справедливым коловращением жизни: старик свое отходил, а салага станет стариком.
Все получилось в моей жизни хорошо, и служба тоже: что ж плохого, если можно столько написать. Но армия мне не нравится. Я три раза был младшим сержантом, то есть меня дважды разжаловали. Первый раз — за организацию коллективной пьянки. Второй — за самоволку: мы с приятелем бегали на ночь к любимым в ту пору девушкам, и нас поймали прямо за заборе, к счастью по дороге обратно, а не туда. В промежутках побыл командиром отделения и замкомвзвода и понял, какая со дна может подняться темная мерзость. В армии это очень просто.
Не может быть здоровой организация, изначально созданная для того, чтобы убивать, и глупо думать, что о таком можно забыть. Еще — форма и погоны: наглядная иерархия. Директор фирмы и его клерк выходят на улицу, и непонятно, кто из них кто. А майор всегда будет зримо главнее лейтенанта, и это всегда будет унижать лейтенанта и развращать майора. Я почувствовал, как могу развратиться в микроскопической должности замкомвзвода, с ничтожными двумя лычками на погонах, когда можно сказать: «Встать! Три наряда на кухню!» — и это не обсуждается, нельзя же ответить: «Давайте поговорим, может быть, вы неправы». Я ощутил, как в душе поднимается муть, и испугался.
С тех пор мне приходилось занимать мелкие начальственные посты, на уровне унтер-офицерских. Надеюсь, та прививка сработала, надеюсь, веду себя прилично.
Амбиции у меня если есть, то не в сфере власти над людьми, а в литературной, сочинительской. Правда, жена утверждает, что можно обругать любое из моих писаний, но не приготовленное мною блюдо. Но все же, конечно, — сочинительство. При этом спокойно отношусь к критике, которой было немного, что тоже подозрительно. На свою книжку «Гений места» мне известны два десятка положительных рецензий и одна отрицательная. Я бы честно предпочел пропорцию — скажем, пятнадцать на шесть, что больше соответствует моему представлению о жизни. Володя Раковский, человек проникающего обаяния, однажды сказал: «Слушай, Петька, ко мне все-все хорошо относятся. Какое же я дерьмо!» Надо додуматься в двадцать лет до такой мысли.
Несомненная заслуга армейской службы: я познакомился с Раковским в 51-м отдельном полку радиоразведки. Мы дружим с тех пор, после смерти отца и матери только Володя по-настоящему связывает меня с Ригой. Я приезжаю туда к нему, снова и снова дивясь невоплощению промысла: нельзя не дивиться, осознавая человеческий калибр Раковского. Одаренный многообразно и неопределенно — очень по-русски, как персонажи Лескова или Шукшина, — красивый, умный, чувствующий тонко и глубоко, он наделен еще и даром, иначе не назвать, притяжения горестей и отторжения удачи. Зато моя удача, мой личный жизненный успех — встреча с ним. На многие годы задержался в моей жизни джазовый пианист из Вильнюса Олег Молокоедов. Олег руководил полковой самодеятельностью, куда я пристроился, не имея никаких талантов, с художественным чтением — два года читал стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». Убожество репертуара проходило незамеченным, так как я со своим Алешей никому был не нужен. Мы выезжали на вечера отдыха пригородных предприятий, Олег с оркестром целый вечер играл танцы, певец Рафик Галимов томно пел: «Встретились мы в баре ресторана…» и прочее любимое. Я же, отчитав про Смоленщину, устремлялся на поиски радостей. В центре Риги человек в солдатской форме не имел никаких шансов, но фабричные окраины жили скорее по законам русской деревни. Этим и пользовались двое примазавшихся к концертной бригаде: я и наш фотограф Подниекс. В армии я встретил Юриса Подниекса, будущего автора разных фильмов, в том числе знаменитого «Легко ли быть молодым?» Летом 92-го он утонул в озере Звиргзду, возле Кулдиги, в Западной Латвии: ныряя с аквалангом, задохнулся, слишком резко поменяв глубину. Юрке, одному из ближайших друзей моей рижской молодости, шел сорок второй год. Он был на год младше. В армии разница в год существенна. Подниекс еще ходил в салагах, когда я уже перешел в разряд «лимонов», или «черпаков». Но он утвердился сразу: стал фотографом части, почтальоном, заведующим радиорубкой, да еще побил какие-то полковые рекорды. До армии занимался пятиборьем, что не случайно: от избытка энергии и способностей не признавал узкой специализации. В кино начал оператором, достиг высот, стал режиссером, сделался звездой, собирался переходить от документальных картин к игровым. Обдумывал фильм «Иосиф и его братья» по мотивам пьесы Райниса. Точнее — «Язеп и его братья», ближе к оригиналу: латышская вещь на библейскую тему.
Юрис был латыш, что не строчка из анкеты, а характеристика. Из национальных черт взял прежде всего основательность: хотел заниматься многим и везде преуспеть. Когда мы познакомились, Подниекс довольно плохо говорил по-русски и оттого расстраивался, не желая замыкаться в рамках Латвии, понимая значение хорошего русского для карьеры в Союзе. В его радиорубке я наговаривал бобины стихов — Пушкин, Блок, Есенин, Северянин, — которые он заучивал наизусть, избавляясь от акцента. Потом, уже после армии, я вздрагивал, когда в полумраке, в табачном дыму и алкогольных парах, доносилось: «В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом…» — Подниекс обрабатывал очередную жертву. Один пушкинский фрагмент стал у нас неким паролем: «Ночь тиха, в небесном поле светит Веспер золотой. Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой…». Я уехал в Америку в 77-м, а когда началась свобода и прогремел фильм «Легко ли быть молодым?», представлял себе, как Подниекс приедет с картиной в Нью-Йорк, а я приду в зал и пошлю ему записку с «догарессой». Но Юрка меня опередил, раздался звонок, и вместо «здрасте» в трубке зазвучало: «Ночь тиха, в небесном поле…». Он все осваивал капитально. Когда встретились в Риге, поехали на руины империи: так назвали акцию, хотя весной 90-го империя еще только шаталась. Но мы пили шампанское на месте своей воинской части. Вместо казарм, столовой, клуба, где в радиорубке устраивались тайные гулянки с учительницами из подшефной школы, раскинулся пустырь. Все выглядело примитивной символикой: съехались из разных полушарий выпить на развалинах милитаризма, в преддверии независимой Латвии.