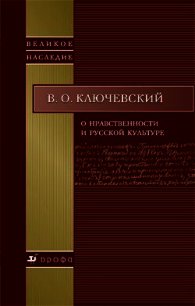Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Итак, в одном случае — усредненный читатель, как бы добавленный к тексту извне, просто для того чтобы гарантировать его реальность; во втором же случае — индивидуальный читатель, исходно внутритекстуальная фигура, но в итоге обретающая биографическую, социологическую или историческую реальность. Если прослеживать это расхождение перспектив до крайних пределов (например, до контроверзы модерна и постмодерна), то оно уведет нас далеко — в конечном счете в историю. В сущности, оно обусловлено тем отношением, какое устанавливается между чтением и словом мира, образующим либо горизонт, либо назначение литературного произведения. Таким образом, точка разрыва (или перехода) располагается в другом месте — между миром вымысла и вымыслом о мире, между точкой зрения, отдающей предпочтение дескрипции текста и даже мерящей «реальность» по говорящим о ней рассказам, и другой точкой зрения, которая, напротив, отдает предпочтение инскрипции текста, стремясь измерить «реальность» в говорящих о ней рассказах. У обеих этих крайних позиций, объясняющей и интерпретирующей, есть хорошо известные изъяны: сводить чтение к семантической фикции или к игре письма — значит, в худшем случае, утверждать, что нет вообще или больше нет вне-текста; смешивать же его со стремлением осмыслить мир (придать ему гуссерлевский или какой-то иной Weltsinn, «мировой смысл») — значит необдуманно забывать, что не может быть литературы вне письма, что не может быть смысла без высказывающих его слов. И вот — случайность ли это? — методы, описывающие мир текста, методы объяснения текстов вплоть до семиотики, стилистики, риторики или же нарратологии, оказываются прежде всего «французскими»; а те, что вписывают текст в мир, от Geistesgeschichte до герменевтики, рецептивной эстетики или прагматики, оказываются «немецкими» или же англосаксонскими [43]. По одну сторону — методы (или перспективы) писателя, по другую — читателя.
От интерпретации перейдем к преподаванию литературы или же к Literaturdidaktik [44]. Уже сами термины указывают на разницу в позиции и перспективе. Во Франции литература преподается как длительная история форм и смыслов; в Германии она является даже не предметом, а источником преподавания, «Literatur im Unterricht» («литература в языковом курсе») или «literarisches Lernen» («литературное обучение») [45]. В идеале она учит читать не только литературу, но и вообще слова и вещи, смысл жизни. «Учиться читать через литературу» — значит «получать простой, но вместе с тем и важный опыт языка как опыт мира» [46].
Не будем останавливаться на мелочах, то есть на различиях в методах и учебных расписаниях, которые в одном случае отдают предпочтение исходному тексту и его месту в истории, а в другом — той тематической перспективе, куда он попадает в современном контексте, будь то даже контекст одного конкретного читателя. Так, в Германии нет ничего сравнимого со школьными антологиями типа Лагарда и Мишара (или же Миттерана), с их систематической работой по передаче традиции. Нет и ничего сравнимого с методами письменных работ по литературе — «диссертации», «объяснения текста», «сложного комментария» или с многочисленными конкурсами, которыми размечена, словно порогами и переходными обрядами, вся территория литературного (при)знания.
Рискую быть опровергнутым, но все же берусь утверждать: в тех дискурсах, которыми во Франции высказывается литература, читатель часто бывает начисто забыт. Читатель — или же, по крайней мере, реальность чтения как таковая, поскольку она означает нечто большее, чем обязательную практику, непременное условие. Конечно, здесь необходимы уточнения в свете новейших данных [47]: в последнее время перспектива сместилась в сторону читателя, о чем свидетельствует, помимо прочего, поток работ о рецепции. Теперь читатель уже не растворяется в некоей усредненно-ритуализированной фигуре, в сумме знаний или, вернее, этики (светски-республиканской) [48], а выступает как индивидуальность, не сводимая ни к какому идеалу чтения. Но все-таки раньше точка зрения всегда оставалась односторонней, а значит, и однозначной — от текста к читателю; делом читателя было выяснить без остатка все, что, как предполагается, высказывает или подсказывает нам произведение. При таком распределении ролей следовало как можно точнее уловить общий замысел, а заодно и писательское мастерство, которым он поддерживается и выражается, которое лежит в самом истоке изучаемого текста. Пусть сегодня об этом и уместно говорить в прошедшем времени, все же акцент по-прежнему делается на тексте и его фактуре.
Напротив того, перспектива Literaturdidaktik — это, в идеале, изучать скорее условия возможной инскрипции произведения в мир (или текст) читателя. Итак, «литература для читателя» [49] — а не наоборот, «читатели для литературы». Здесь также беглый обзор фактов подтверждает нашу исходную гипотезу: немецкая литературная дидактика, опирается ли она на антропологию, психологию или лингвистику [50], изначально исходит из чтения, а уже потом возводит в принцип и метод контекстуализацию некоторого поля интересов, ожиданий или ценностей, свойственного конкретному читателю. Таким образом, литературное произведение образует место назначения (Zieltext) интерпретации. Интерпретация помогает читателю не столько удостоверить умение или мировидение писателя, сколько постичь некую истину о мире и самом себе — через посредство собственной вовлеченности в текст, отождествления или дистанцирования по отношению к нему, наконец, его симуляции. На вопрос «зачем литература?» здесь отвечают ценностями, оправдывающими чтение: для критического мышления, освобождения, развития, самоосуществления (Selbstverwicklichung) [51]. Говоря конкретнее, вот некоторые из основных целей, утверждаемых в Literaturdidaktik: открытие литературного произведения как «конструирование реальности» (Entwurf von Realität), способное дать возможность для собственной точки зрения; познание великих текстов литературы; наконец, научение эстетической восприимчивости к языковым объектам [52]. Итак, во всем точка зрения читателя, стремящегося подходить к литературному факту снизу, через ожидание, которым он поглощен и в котором он обретает смысл своего существования.
Конечно, подобные воззрения уже устарели, равно как и вдохновляющая их идеология — критическая теория, господствовавшая в 70-е годы; а точнее, модель или идеал диалогической и рефлексивной компетенции [53]. Эволюция последних лет несет с собой больше интереса к фактуре, а значит, и к собственно литературной специфике текста [54]. И все же в целом новая перспектива продолжает отдавать предпочтение герменевтическому кругу интерпретации — от читателя к читателю через текст. Со всеми опасностями, присущими такой позиции: тенденцией превращать литературный текст в дискурс, сводить его к одному лишь его значению, — словом, инструментализировать его. В противоположность таким стремлениям, во французской дидактике можно прочитать следующее исповедание веры (которое, выказывая происходящую параллельно эволюцию, оставляет далеко позади навыки традиционного объяснения текста): «Литературный текст в языковом классе не должен сводиться к какому-либо „поводу“: а значит, не должно быть никакого „детального объяснения текста“ или „философского истолкования“ на тему того, „что хотел выразить автор“. Текст остается неприкосновенным. Он не должен вскрываться, разрезаться, разрушаться» [55].