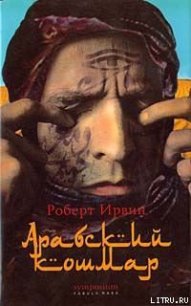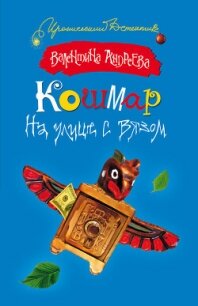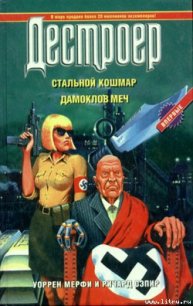Кошмар: литература и жизнь (СИ) - Хапаева Дина Рафаиловна (читаемые книги читать онлайн бесплатно .txt, .fb2) 📗
Кошмар «Бобка» вовсе не ограничивается только засыпанием и пробуждением героя. Помимо говорящих за самих себя мертвецов, в нем находят свое место разные элементы гипнотики кошмара, в частности — невозможность бегства. Ужас от осознания невозможности избежать, исчезнуть, не участвовать в происходящем, не слышать и не слушать, не видеть, не присутствовать делает бегство кошмара — точнее, невозможность спастись — особенно драматичным.
Достоевский показывает в «Бобке» полное отсутствие свободы выбора. Кошмар в том, что мертвец не может избегнуть своей участи — не слушать или уйти, как из жизни. Читатель охвачен безысходным ужасом от того, что как религиозный, так и естественно-научный ответ на последний вопрос бытия равно ничем ему не поможет: этот ужас нельзя рационализировать и объяснить, и поэтому его невозможно отвергнуть или опровергнуть. Попытка религиозного объяснения богохульных разговоров мертвецов в могилах, профетом которой характерным образом выступает лавочник в диалоге с барыней, терпит полное фиаско:
Оба достигли предела и пред судом божиим во гресех равны.
— Во гресех! — презрительно передразнила покойница. — И не смейте совсем со мной говорить! [450]
Ужас «Бобка», в котором кошмар приобретает сугубо материальное звучание, опережая грядущие поиски Лавкрафта, состоит в том, что эта моральная пытка, может быть, и есть вечность.
Оскал готического кошмара, а вовсе не карнавальный смех, жуткий сарказм, а не карнавальная ирония обнажает за суетой жизни страшный вопрос «Бобка»: что, если загробная жизнь есть, но это просто кошмар? Этот вопрос, которому посвящен «Бобок», мучил Достоевского не одно десятилетие: образ вечности как «баньки в пауками» возник под его пером уже в «Преступлении и наказании». Леденящий душу кошмар цинической насмешки «последнего вопроса», от которого нет спасения и который не оставляет надежды [451], составляет суть этого произведения. Отказ от его решения в религиозных терминах, десакрализация и материализация ужаса делают «Бобок» провозвестником готической эстетики в современной культуре.
Звукопись кошмара
«Бобок» — это звукозапись кошмара, предшествующего речи, сосредоточенного в звуке, в чувстве, в стеснении груди:
Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подде: «Бобок, бобок, бобок!» Какой такой бобок? Надо развлечься [452].
Бобок — бо-бок, бо-бок, — повторение слогов, повторение звука на протяжении всей повести, вызывает теснящее грудь чувство. Недаром это ключевое слово «невинно» по смыслу и совершенно никак не связано с «идеей» повести или с логикой рассказа. Казалось бы, на это стоит обратить внимание! О том, что звукослово «бобок» — это символ бессмысленности бытия при отсутствии и морального и религиозного императива, герой Достоевского говорит прямо:
Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три… (…) Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой… [453]
«Бобок, бобок, бобок» затягивает нас в воронку кошмара, возникающую благодаря навязчивому кружению пустого звука, в котором сконцентрировался тяжелый внутренний дискомфорт, переживаемый героем. Это — центральная тема «Бобка», мимо которой, не замечая ее, проходят критики. Голос одного из мертвецов утверждает:
…Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении…
— Довольно, и далее, я уверен, все вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов — бобок [454].
Разгадкой слова «бобок», с которого начинается весь рассказ и кошмар героя, заканчивается действие рассказа, и в самом конце снова мы слышим сарказм, издевку над неспособностью героя — и своих будущих критиков? — осознать подлинный ужас, сочтя его посторонней нелепицей, этакой незначимой стилистической завитушкой:
Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то и оказался!). Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и — даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения… [455]
В звукописи «Бобка» находит свое самое полное выражение и бормотание Голякина, и безмолвие Прохарчина, и заговор «Хозяйки» — все те искания, с которых началась литературная карьера Достоевского. Это — кошмар деградации речи в невыразимую эмоцию, уводящий за пределы языка и воспоизводимого ужаса. Неспособность выразить словами то, что стесняет и давит душу, томит и мучает, то, что Достоевский называет по-разному — то тоской, то червячком, — показывает как беспамятствующее слово превращается в заговор, в бормотание, в звук. Все убыстряясь, оно увлекает в водоворот кошмара, где, утратив остатки смысла, оно обернется мучительным стоном. Но парализованное сознание сновидца не в силах ни вернуть ему значение, ни отвлечься. От повторения звука разрушается рациональная природа слова. Бессмысленное звукослово, авласавлалакавла, навязчивый внутренний «бобок», бегство от которого и выход из которого возможен — когда он возможен — лишь в пробуждение, в наделение звука смыслом, в выговаривание. Неспособность справиться с бессмысленным словом кошмара ввергает в речевое расстройство и безумие.
Бахтин назвал прозу Достоевского «своеобразной лирикой, аналогичной лирическому выражению зубной боли» [456]. Достоевский действительно выражает боль, но боль, рожденную предчувствием и переживанием кошмара.
Значимость звукописи кошмара для Достоевского косвенно подтверждается тем, что ни в «Двойнике», ни в «Прохарчине», ни в «Хозяйке», нигде не звучит музыка. Музыка не сопровождает разговор Ивана с чертом, не звучит она и в кошмаре «Бобка», что нельзя не признать, конечно, некоторым отступлением от правил, нарушением канона. На самом деле, музыка не играет практически никакой роли в произведениях Достоевского, хотя, как утверждают биографы, Достоевский не был вовсе к ней нечувствителен.
Эту лакуну кошмароведения помогает заполнить Бахтин, указывающий на редкое место у Достоевского, где музыка все-таки появляется. Показателен сам путь, которым Бахтин приходит к этому обнаружению. В его рассуждения о кошмаре Ивана властно вторгаются музыкальные аллюзии, исток которых он начинает искать и находит в одном месте в «Подростке». Конечно, Бахтин видит в музыке только «художественное оформление» диалога:
Здесь же нам хочется привести одно место из Достоевского, где он с поразительной художественною силою дает музыкальный образ разобранному нами взаимоотношению голосов. Страница из «Подростка», которую мы приводим, тем более интересна, что Достоевский, за исключением этого места, в своих произведениях почти никогда не говорит о музыке. (…) Часть этого музыкального замысла, но в форме литературных произведений, бесспорно, осуществлял Достоевский, и осуществлял неоднократно на разнообразном материале [457].
К этому предложению в тексте Бахтина следует ссылка на «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, из которой мы узнаем еще точнее, о какой именно музыке идет речь. Так вот, Манну, как и другим критикам и читателям Достоевского, не ослепленным идеей диалога, слышалась в его прозе инфернальная готическая музыка кошмара:
Правда, предшествующие кошмары полностью перекомпанованы в этом необычайном детском хоре, в нем совершенно другая инструментовка, другие ритмы, но в пронзительно-звонкой ангельской музыке сфер нет ни одной ноты, которая, в строгом соответствии, не встретилась бы в хохоте ада [458].
То, что пытались выразить авторы готического романа, что укоренилось в современной литературе в виде инфернальной музыки кошмара, есть звук обезумевшего слова, слова, утратившего свою природу. Не поняв и не исследовав глубинные истоки кошмара, авторы готического романа, как и их последователи, заменяли неясные, но тягостные впечатления звуками оркестра. Ближе других к пониманию звукописи кошмара подошел внимательный кошмаровед Лавкрафт, почуявший в кошмаре странные, мучительные и беспамятные звуки не музыкальной, а иной природы.