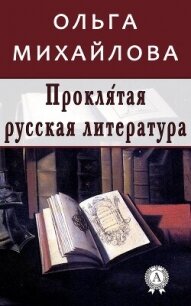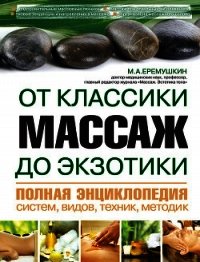Литературный навигатор. Персонажи русской классики - Архангельский Александр Николаевич (бесплатные книги полный формат .txt, .fb2) 📗
Тарасов полк продолжает жечь костелы, вырезать местечки, доходит до Кракова, но в конце концов сам попадает в руки воинов коронованного гетмана Потоцкого и оказывается на костре. Это третья кульминация и одновременно развязка повести. Сын-«иуда» был казнен Отцом-«яхве»; христоподобный Остап был казнен врагами веры православной; теперь приходит пора Отцу-громовержцу пройти через высокую муку казни.
Не случайно его путь в смерть пролегает через всеочищающую огненную стихию, а смерть дарит ему последнюю радость. С вершины утеса, с высоты своей «олимпийской Голгофы» сжигаемый на костре Тарас наблюдает, как братья казаки спасаются от польской погони (и даже криком успевает предупредить их об опасности). А главное – он становится свидетелем смерти брата ненавистной польки, что соблазнила своей страшной красотой Андрия. И если последние слова казаков, погибших в бою за Дубно, были славословием Отечеству и вере православной, если последнее слово Андрия было о польской панночке, если последний выкрик Остапа был обращен к отцу, то последнее слово Тараса превращается в пророческую хвалу русской силе, которую ничто не пересилит, в прорицание о грядущем возвышении русской земли, из которой «подымается <…> свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!».
Эти «пророческие» слова, введенные во 2-ю редакцию повести (1842), – не только дань идеологии «официальной народности» эпохи Николая I, не только аллюзия, напоминание о современном военно-политическом фоне повести (религиозные войны XVI века – подавление польского восстания 1830–1831 годов), но прежде всего ключ к образу Тараса.
Он действительно изображен как один из последних носителей героически-мессианского запорожского сознания, воплощение воинского духа и дикой вольницы – Сечи. Эта Сечь в изображении рассказчика, конечно, не совпадает с реальностью исторического Запорожья. Она символизирует пространство, свободное от оков чуждой, западно-католической государственности. В этом пространстве, объятом «бранным пламенем древле-мирного славянского духа», вызревает русско-украинская будущность. Сами по себе запорожцы – убежденные анархисты, жизнь их вполне разбойничья – или налет, или «околдовывающее пиршество». Но сами не ведая о том, они выполняют миссию хранителей грядущего величия России. Закваской этого величия, столько же политического, сколько и мистического, служит запорожское товарищество, религиозно-бытовое братство, выразителем и чуть ли не поэтом которого выступает в повести Тарас Бульба.
Перед кровавой битвой у стен осажденного Дубно он произносит пламенную проповедь во славу товарищества, обращенную к той «половине» казачества, что пожелала остаться с ним в «проклятой Польше»: «Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. <…> Пусть же знают они все, что такое в русской земле товарищество!»
«Личный» подтекст этой речи ясен: Тарас только что пережил потрясение от вести об измене Андрия. Он отсекает от своего сердца «звериную» любовь отца к дитяти, чтобы ярче пламенеть любовью к товариществу, что выше семьи, выше родства по крови, вообще выше всего земного. Переживание товарищеского, братского единства может быть обострено, усилено отцовским чувством (сцена казни Остапа), но заменить, вытеснить его – не в состоянии.
Однако «личным» подтекстом смысл этой речи не исчерпывается. Религиозная лексика, риторические обороты, восходящие к церковной традиции, здесь не случайны. Сходясь в великую общность товарищества, запорожцы как бы образуют единое мистическое тело. Каждый из его членов по отдельности может погибнуть, но вместе они бессмертны.
Гоголевский рассказчик изображает запорожцев как некую стихийную, военизированную, православно-языческую кочующую церковь. Их бесконечные пиры оказываются подобием евхаристии, во время которой они вином и хлебом неустанно приобщаются к товариществу. Тарас – самоотверженный проповедник этой «веры в товарищество». В сцене перед Дубновской битвой он превращается и в ее «жреца» – выкатывая бочку старого вина и «причащая» им казаков, которым предстоит славная смерть, прямиком ведущая в жизнь вечную: «Садись, Кукубенко, одесную меня! – скажет ему Христос. – Ты не изменил товариществу».
Тост, который Тарас Бульба при этом произносит, звучит как символ веры и одновременно как тайнодейственная молитва «о всех и за вся»: «за святое Православие <…>, чтобы все бусурмане сделались христианами <…>, за Сечь <…>, за всех христиан». А называя сына-изменника «иудой», он не просто дает «нравственно-религиозную» оценку его предательству, но свидетельствует, что отпадение от «товарищества» равносильно богоотступничеству.
При этом само православие для Тараса (как, впрочем, для всех запорожцев в изображении Гоголя) не столько святоотеческое учение, сколько своеобразный религиозный пароль, открывающий врата во святое отечество. «Здравствуй! Что, во Христа веруешь?» – «Верую!» <…> «А ну перекрестись!» <…> «Ну, хорошо, <…> ступай же, в который сам знаешь, курень». Мир Сечи – а значит, мир Тараса – это мир знаков, которые гораздо важнее своего значения. Даже причина, которая подняла его на поход против Польши, – это не уния как таковая, но мистическая подмена знака: «если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой Пасхе, то и святить Пасхи нельзя». Католики суть такие же христиане, как и православные, но взятые с обратным знаком, как поляки суть такие же славяне, но с обратным знаком. Война с ними – это во многом война с чуждыми знаками. Если знаки поменяются – мир преобразится и «бусурмане» станут христианами. А пока это не произошло, нужно воевать, воевать неустанно, воевать вдохновенно, обороняя свои знаки от чужих значений.
Но время, в которое выпало жить беспорочно-правильному запорожцу Тарасу, уже подпорчено. Это время не до конца эпично. Дело не только в том, что поляки «уловляют» душу Андрия. Многие казаки – в отличие от Бульбы, его достойного наследника Остапа и верных сподвижников вроде Дмитро Товкача, поддались тлетворному польскому влиянию, успокоились, примирились со злом, «обабились», привыкли к роскоши и холе.
Самое появление Тараса Бульбы в Сечи должно насторожить внимательного читателя: лучшие казаки погибли от рук бусурманских. Бородавка повешен в Толопане, с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, Пидсадкова голова посолена в бочке и отправлена в Царьград. А запорожцы не только заключают мирный договор с турками, но и клянутся своей верой (главным из «знаков»!), что будут верны договору с неверными!
Вопреки старинному казачьему правилу (в походе не пить, иначе смерть), во время осады Дубно запорожцы напиваются, и пьяный Переяславский курень частью гибнет, частью живьем попадает в руки поляков. Наконец, очнувшись в Сечи после тяжкого ранения, Тарас Бульба не узнает своего «духовного отечества». Все старые товарищи перемерли, от славных былых времен остались одни намеки. Очередная «священная война» против католиков, которую он поднимает после варшавской казни Остапа, это не только месть за сына, но и отчаянная попытка спасти «товарищество» от разложения, вернуть «бранный смысл» запорожского существования. Однако война вскоре прекращается благодаря заступничеству православного духовенства; за Тарасом из стодвадцатитысячного войска соглашается следовать один только полк. Кажется, все кончено.
В 1-й редакции Тарас Бульба после этого «просто» вдохновенно и величественно погибал; финальная сцена бросала трагический отсвет на его колоритную фигуру, напрямую связывалась со сквозной темой «Миргорода» (измельчание жизни, утрата смысла). Жертвенный героизм Бульбы был безысходен. Но во 2-й редакции Гоголь, как было сказано, вкладывает в уста последнего из запорожцев процитированный выше монолог. Мессиански-государственное пророчество возвращает запорожскому миру утраченный смысл. Сечь не гибнет, но отступает в мифологические глубины истории, чтобы дать дорогу новому, высшему проявлению славянства – русскому царству.