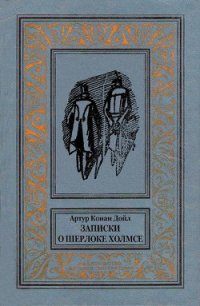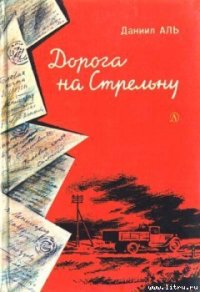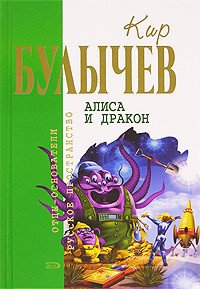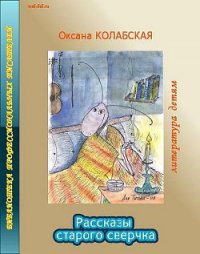Рассказы о литературе - Сарнов Бенедикт Михайлович (лучшие книги txt) 📗
Чтобы понять, как это происходит, обратимся к одному из самых тенденциозных образов мировой литературы — к образу императора Наполеона в романе Льва Толстого «Война и мир».
Вы уже встречались на страницах нашей книги с толстовским Наполеоном и знаете, что Толстой в своем отношении к французскому императору даже и не старался быть беспристрастно-объективным. Наоборот, он относился к Наполеону в высшей степени пристрастно. Попросту говоря, он его терпеть не мог. Можно даже смело сказать, что Толстой был к Наполеону явно несправедлив.
Все это общеизвестно, и в критической литературе о Толстом существует мнение, что в романе создан не портрет Наполеона, а ядовитый шарж, злая карикатура на этого блистательного политического деятеля.
Вспомните то место романа, где Толстой изображает Наполеона перед Бородинским сражением любующимся на портрет своего маленького сына.
«Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал Боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет перед палатку, чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя.
Как он и ожидал, в то время, как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, перед палаткой слышались восторженные крики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии...
Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев перед портретом его сына еще более усилились. Наполеон нахмурился.
— Снимите его, — сказал он, грациозно, величественным жестом указывая на портрет. — Ему еще рано видеть поле сражения.
Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора...»
И в самом деле, трудно придумать более убийственную карикатуру! Ведь даже наедине с собой, даже перед портретом любимого сына Наполеон притворяется. Каждый его жест, каждая фраза рождены одним — самодовольным позерством и мелким тщеславием.
Естественно предположить, что всю эту сцену Толстой нарочно выдумал, чтобы получше осмеять своего нелюбимого героя.
Но вот штука! Ознакомившись с историческими документами, мы убеждаемся, что Толстой не выдумал почти ни чего!
Вот что пишет в своих мемуарах тот самый Боссе, которому выпала честь позавтракать вместе с императором:
«...Торопясь насладиться образом, столь дорогим его сердцу, Наполеон приказал мне немедленно принести этот ящик. Я не могу выразить, какое удовольствие он испытал при виде образа. Только сожаление, что он не может прижать это милое дитя к своей груди, смущало его светлую радость. Его глаза выражали самое искреннее умиление...
Он позвал всех своих офицеров и всех генералов, которые находились неподалеку от палатки, чтобы разделить с ними чувства, которыми была переполнена его душа...
Потом он велел поставить портрет перед палаткой на стуле, чтобы все офицеры и даже солдаты его гвардии могли его видеть и черпать в нем новое мужество...»
А вот как изображают ту же самую сцену другие мемуаристы и историки:
«...Его воинственная душа была растрогана. Он собственноручно выставил эту картину перед своей палаткой, потом позвал офицеров и солдат своей старой гвардии, желая поделиться своим чувством с этими старыми гренадерами, показать свое интимное семейство своей великой семье и озарить этим символом надежды приближающуюся опасность». (Граф де Сегюр. «Поход в Москву».)
«Г-н де Боссе, префект дворца, прибывший в этот день из Парижа, привез ему портрет короля Римского, писанный знаменитым художником Жераром.
В течение нескольких минут император Наполеон с волнением вглядывался в черты своего сына...» (Тьер.)
«Барон Денье свидетельствует, что Боссе, префект дворца, приехал из Парижа с депешами и привез Наполеону портрет его сына. Император в молчании рассматривал его и потом приказал выставить оный перед палаткой, но тотчас после, с живостью и как бы отрываясь от душевной тревоги, которую он усиливался превозмочь, сказал: «Снимите его. Ему слишком рано видеть поле битвы». (Генерал И. Липранди. «Кому принадлежит честь Бородинского дня».)
Сравните все эти свидетельства с текстом Толстого, и вы увидите, что Лев Николаевич точно воспроизвел всю фактическую сторону дела. Ни одного факта он не изменил и не исказил. Он даже дословно привел подлинную фразу Наполеона:
— Снимите его! Ему еще рано видеть поле сражения!
Единственное, что внес Толстой от себя, — это ощущение нестерпимой фальши. Лицемерие позера, с каким ведет себя здесь Наполеон. Ведь никто из мемуаристов не усомнился в предельной искренности императора, в подлинности того волнения, которое он якобы испытал при виде портрета.
«Его глаза выражали самое искреннее умиление... — твердит Боссе. — Он позвал своих офицеров... чтобы разделить с ними чувства, которыми была переполнена его душа...»
«Наполеон с волнением вглядывался в черты своего сына...» — вторит Тьер.
«Его воинственная душа была растрогана», — столь же растроганно пишет граф де Сегюр.
Одним словом, у мемуаристов Наполеон в этой сцене искренне растроган, умилен, взволнован.
У Толстого он притворяется растроганным и умиленным.
Казалось бы, вот оно — то вопиющее искажение правды, которое позволил себе Толстой, поддаваясь своей резкой неприязни к Наполеону. Но прежде чем сделать такой решительный вывод, давайте внимательно перечитаем свидетельства мемуаристов. Давайте вслушаемся в подхалимские интонации голоса префекта де Боссе: «Только сожаление, что он не может прижать это милое дитя к своей груди, смущало его светлую радость...» Разве это пишет объективный очевидец? Куда там! Это рассказ лакея о своем господине. Рассказ человека, потрясенного, осчастливленного тем, что и он волею судеб допущен в высочайшие сферы.
А сами факты? Сами по себе жесты и позы Наполеона? Сам приказ выставить портрет сына (а вместе с ним и свои отцовские чувства) на всеобщее обозрение? Разве все это не отдает чем-то показным, ненатуральным, фальшивым?
Нет, пожалуй, все-таки Толстой ничего не придумал. Ну, разве только чуть-чуть домыслил, договорил до конца. Его активная неприязнь к Наполеону лишь помогла ему разглядеть ту фальшь, которая притаилась между строк в свидетельствах восторженных мемуаристов и почтительных историков. Толстой просто вытащил эту фальшь наружу. Он словно бы сорвал со всех свидетелей маски. И открыл ту суровую, неприглядную правду, которая скрывалась под их льстивыми, высокопарными фразами.
Так пристрастность, тенденциозность Толстого не только не помешала ему быть правдивым, но сделала еще более проницательным, еще более чутким к правде.
А вот другой, пожалуй, еще более удивительный случай.
Он тоже связан с историей создания романа, о котором мы уже говорили в нашей книге. (На этих, заключительных страницах мы нарочно вспоминаем произведения, уже нами разбиравшиеся.) Это роман Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».
Там есть такой персонаж — Самсон-хан. Как и главный герой романа, это фигура не вымышленная. Настоящее имя Самсон-хана — Самсон Яковлевич Макинцев. Давным-давно, еще при «матушке Екатерине», он был вахмистром Нижегородского драгунского полка. За какие-то прегрешения ему вкатили тысячу палок, «да вдругорядь при его величестве императоре Павле 2500 шпицрутенов». Самсон бежал в Персию и со временем занял там довольно высокий пост: стал начальником личной гвардии шаха, которая была сформирована из таких же беглых русских солдат, как и он сам.
Об этом самом Самсон-хане написал солидное исследование дореволюционный ученый Берже. Ему принадлежат такие труды, как «Деятельность А. С. Грибоедова как дипломата», «Смерть А. С. Грибоедова», «Самсон Яковлевич Макинцев и русские беглецы в Персии». Работая над романом о Грибоедове, Тынянов, конечно, внимательно читал эти работы.
Однако читать-то читал, а вот соглашаться с ними не хотел.
Он представлял себе Самсон-хана человеком с трагической, изломанной судьбой. Жестоким, страшным, сильным и неуступчивым. А историк Берже приводил документы, свидетельствующие, что бывший русский вахмистр, ставший персидским генералом, искренне раскаялся и чуть ли не слезно молил государя императора простить его.