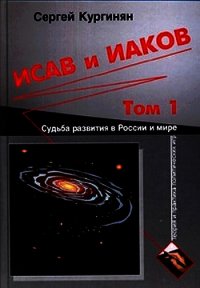Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2 - Кургинян Сергей Ервандович (книги без регистрации полные версии .TXT) 📗
Если же советский (то есть бывший советский) обществовед решит служить какому-то новому делу (демократическому, белому, фашистскому — любому), то он будет делать это в точности по лекалу советской агитпроповской (по мне, так далеко не лучшей) системы. Как говорилось в анекдоте про одного советского сателлита, начавшего вместо произнесения речей собирать камни в корзину, «произошла ошибка, мы в него заложили программу лунохода».
Мне невероятно интересно наблюдать, как вставшая на новую трассу Пиама Павловна воспроизводит служение делу… Никакой там не РПЦ, а нового класса, от которого она, возможно, крайне далека по факту конкретной жизни и деятельности, но… делу превращенной КПСС, номенклатуры, отказавшейся от хилиазма в пользу гностицизма, от рая на земле в пользу ада на земле… И одновременно навесившей на себя христианские крестики. Ведь по большому счету, согласитесь, если в идее прививки греческой античности христианству и есть какое-то политическое содержание, то оно именно таково. В самом деле, класс (каста, группа, номенклатура) уничтожил свое содержание и, организовав регресс для всего общества, сам ускоренным образом опростился.
Ему какие греки теперь нужны?
Ему если и хочется античности, то в ее грубейшем — садистско-высокомерном — качествовании.
Зачем прорве христианская церковь? Для того, чтобы церковь эта в качестве нового квазиидеологического института сказала классу, что он хорош. Класс навязывает церкви не просто чужую, а диаметрально противоположную ее сути функцию. Он хочет, чтобы его благословили на все то, что он и так делает по факту. Чтобы не научили состраданию и справедливости, а освободили от оных.
Класс, во-первых, хочет этого. А во-вторых, он хочет этого ИМЕННО от той христианской церкви, которая для этого максимально не приспособлена. Ну, обзаведись ты, раз тебе неймется, клубом любителей Ницше, храмом Афродиты или Диониса, неозиккуратом каким-нибудь. Нет! Нужен православный батюшка.
Но батюшка-то батюшкой, а институт как целое? Институт, извините, не сумма батюшек, которые тоже, между прочим, разные. Институту нужна, прошу прощения, ласка.
Начни Горбачев в 1985 году, в самом начале «перестройки–1», заявлять на съезде КПСС нечто откровенно ультраантикоммунистическое — эта грубость была бы сразу отторгнута. Но он сказал об очищении ленинизма, потом о роли Бухарина, потом о гуманном демократическом социализме. Получилось очень ласково и потому абсолютно сокрушительно. Подобная ласка — суть любой перестройки.
Вот и с церковью то же самое. Начни сразу говорить о Ницше — получится слишком грубо. Поэтому сначала надо впарить Платона, с которым у христианства есть свой непростой роман, затем греков вообще… А дальше — со всеми остановками, по аналогии с «перестройкой–1».
Я не хочу сказать, что наш «прорво-класс» как целое может замыслить столь изощренный проект. Но ведь и советская номенклатура как целое не замысливала горбачевскую перестройку. У проекта всегда есть субъект. И, грешен, ощущаю: от рассуждений Пиамы Павловны попахивает какой-то невнятной субъектностью. Это не означает, что Пиама Павловна — часть субъекта. Те, кто Бухарина начинал превозносить, необязательно были в курсе общего перестроечного замысла. Так и в рассматриваемом мною случае.
Технология ласки…
Между прочим, универсальный прием. Называется это «метод последовательной адаптации».
Я системщик. Я вижу, что инъецирование под кожу КПСС антикоммунизма и инъецирование под кожу РПЦ антихристианства происходят одним и тем же — до предела технологизированным — образом.
Кто-то, наверное, скажет, что сие есть симптом Последних времен. У меня есть объяснения и более простые, и, что наиболее важно, технологические. Но я их поберегу для других работ. По теме «оргоружия».
Итак, мы добрались до станции «ницшеанизация православия» (Ницше, кстати, верил, что он избранник Антихриста или даже сам Антихрист, и очень гордился этим). Но, с учетом классового контекста, это еще не последняя станция.
В романе Юрия Домбровского «Хранитель древностей» главный герой слушает, находясь в Средней Азии, радиопередачу о Ницше. Идет 1937 год. И здесь стоит процитировать, как герой описывает все сразу: содержание передачи, контекст, реакции окружающих…
«Шла французская лекция о Ницше. А когда француз, прямо-таки захлебываясь от восторга, говорит в 1937 году о Ницше, — это, конечно, что-то прямо относящееся к войне.
Повторяю, я слушал только потому, что говорил француз. Немца я бы слушать не стал. Но вот то, что француз — любезнейший, обаятельнейший, с отлично поставленной дикцией, с голосом гибким и певучим (как, например, тонко звучали в нем веселый смех, и косая усмешечка, и печальное светлое раздумье, и скорбное, чуть презрительное всепонимание), — так вот что этот самый французский оратор, еще, чего доброго, член академии или писатель-эссеист, не говорит, прямо-таки заливается, закатывая глаза, о Ницше, что все это, повторяю опять и опять, происходит летом 1937 года, — вот это было по-настоящему и любопытно, значительно и даже страшновато. Но сколько я ни слушал, ничего особенного поймать не мог. Шла обыкновенная болтовня, и до гитлеровских вывертов, выводов и обобщений было еще очень далеко. И вдруг я уловил что-то очень мне знакомое — речь пошла о мече и огне. Правда, все это — огонь и меч — было еще не посылка и не выводы, а попросту художественный строй речи — эпитеты и сравнения. Но я уже понимал, что к чему. Дюрер, сказал француз, в одной из своих гравюр изобразил Бога-Слово на троне. Из уст его исходит огненный меч — вот таким мечом и было слово Ницше. Он шел по этому миру скверны и немощи, как меч и пламя. Он был великим дезинфектором, ибо ненавидел все уродливое, страдающее, болезненное и злое, ибо знал — уродство и есть зло. В этом и заключалась его любовь к людям.
И тут сладкозвучный голос в приемничке вдруг поднялся до высшего предела и зарыдал.
«Так послушайте же молитву Ницше, — крикнул француз. — Послушайте, и вы поймете, до какой истеричной любви к людям может дойти человеческое сердце, посвятившее себя исканию истины. Что может быть для философа дороже разума, а вот о чем молит Ницше: «Пошлите мне, небеса, безумия! Пошлите мне бред и судороги! Внезапный свет и внезапную тьму! Такой холод и такой жар, которые не испытал никто! Пытайте меня страхом и призраками. Пусть я ползаю на брюхе, как скотина, но дайте мне поверить в свои силы! Но докажите мне, что вы приблизили меня к себе! Но нет, при чем тут вы? Одно безумие может доказать мне это!?»
Голос, взлетевший вверх до крика, стал все понижаться и понижаться, дошел до шепота и оборвался. Наступила тишина. Приемник гудел и молчал. Я сидел, затаив дыхание.
Дед вдруг поднял бурые веки и зевнул.
— Ну все, что ли? — спросил он.
«Слышите ли? — взвизгнул приемник. — Слышите ли вы, люди, эту мольбу? Из-за вас мудрец отказывается от своего разума. Вы слышите, как бьется его живое обнаженное сердце. Еще секунда — и оно разлетится на части…?»
Снова наступило молчание, и потом голос сказал печально и обыденно:
«И Бог услышал его просьбу — он сошел с ума».
— Ну, на сегодня хватит, — сказал я и выключил приемник».
Не знаю, что заставило меня вспомнить роман Домбровского, прочитанный в далекие шестидесятые годы. Я прекрасно понимаю, что Пиама Павловна — не этот рыдающий француз. А Лоргус тоже «из другой оперы». Но все вместе в чем-то созвучно!
И для того, чтобы было понятно, в чем именно, я все-таки продолжу развернутое цитирование. На следующий день герой обсуждает с директором музея свои впечатления от радиопередачи. И вступает с директором в дискуссию, которую мне почему-то захотелось воспроизвести целиком. Что я и делаю.
«Директор (…) подошел к приемнику. — Ну, так что ж ты сегодня услышал? Было что-нибудь стоящее?
— Было, — ответил я, — и очень даже стоящее. Лекция о Ницше.
Директор покрутил головой.
— Вот въелся он им в печенки. Как включишь Германию — так и он.