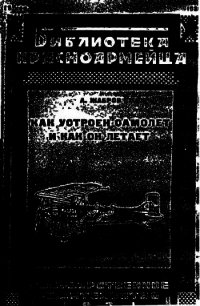Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы - Дерлугьян Георгий (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
Всенародный польский национализм возник из отмены крепостного права. Прежней шляхте в борьбе за свои стародавние вольности едва ли приходило в голову опереться на крестьянское «быдло». Теперь же, в эпоху быстрого распространения грамотности, роста индустриальных городов и открытия новых путей социальной мобильности, начал оформляться национальный блок всех поляков. Если русские крестьяне и рабочие после 1905 г. пришли к отождествлению своего освобождения с избавлением от самодержавия и достижением некоей формы социализма, для поляков цель виделась в избавлении от русского самодержавия и возрождении польского национального – значит, католического – государства.
Независимость Польши была восстановлена в 1918 г. среди крушащихся империй. Архитекторы версальского мира рассчитывали сделать из Польши геополитический барьер против большевизма. Казалось, план удался. Красная конница, попытавшаяся в 1920 г. двинуть дело мировой революции на запад, разбилась о патриотическое сопротивление поляков. Не зря Фридрих Энгельс некогда в сердцах обозвал поляков жертвами «ложного сознания», упорно не желающими поверить, что их угнетатели – буржуазия, а не «проклятые немцы и русские». Национализм оказался самым сильным конкурентом социализма.
Польша все-таки стала советской и социалистической в результате новой серии тектонических подвижек в геополитике, которые принято называть Второй мировой войной. Людские потери (надо ли напоминать?) были чудовищны и непропорционально пришлись именно на польские земли. В результате отторжения украинских, белорусских и литовских земель, гитлеровского холокоста евреев и послевоенного изгнания миллионов немцев Польша стала практически однонациональной страной. При этом, хотя в несколько других границах, Польша была восстановлена как суверенное государство, поскольку таково было одно из основных условий стабилизации миропорядка холодной войны.
Трудно было придумать более ироническое название для советского геополитического блока, чем Варшавский договор. Более эксцентричного сателлита у СССР быть не могло. Собственная компартия Польши была разгромлена Сталиным еще накануне войны, поскольку, конечно, не могла быть послушной Москве. Та номенклатура, что прибыла затем вместе с советской армией, воспринималась как совершенно пришлая. Открытое отторжение выплеснулось при первой возможности в 1956 г. Католическая церковь стала тогда центром альтернативной власти и авторитета и оставалась им до конца социализма.
Гарвардский политолог Гжегож Экерт показал, как разнохарактерные итоги антисоветских восстаний в странах Восточной Европы подготовили различные варианты выхода из государственного социализма. В Венгрии подавление восстания 1956 г. привело к формированию технократического эшелона власти, которая пыталась сгладить травматические воспоминания контролируемыми рыночными экспериментами и налаживанием экономических связей с Западной Европой. Отсюда один из наиболее гладких переходов после 1989 г. В Чехословакии после 1968 г. установился более суровый режим брежневского типа, преодоление которого привело к «бархатной», но тем не менее революции и разделу страны. В Польше же власти ни разу не смогли полностью подавить оппозицию или купить ее реформами. Каждый очередной всплеск протестов – 1956, 1970, 1980–1981 гг. – отвоевывал новый плацдарм для оппозиционного «гражданского общества», которому католическая церковь предоставляла мощное моральное и организационное закрепление.
Самый, пожалуй, политически эффективный польский диссидент и публицист Адам Михник четко показал тенденцию к слиянию идеи церкви с идеей автономии общества от власти. В конце пятидесятых годов, когда успехи социализма еще порождали оптимизм, первым возникает интеллектуальное движение за гуманизацию социализма. Но затем идея социализма преодолевается и остается мечта о гуманизации и автономности личности. Именно тогда, как пишет Михник (сам, кстати, еврей), в светской и тогда «новой левой» интеллигенции неожиданно для них самих возникает интерес и уважение к церкви как носительнице аналогичных идеалов. Сама церковь в 1960-е гг. начинает меняться вместе с обновленческим движением Второго ватиканского собора. К моменту возникновения профсоюза «Солидарность» жарким летом 1980 г., польский католический патриотизм возникает как платформа, способная объединить практически все общество против монолита власти. Бесперспективность положения стала очевидна самому коммунистическому режиму.
Горбачевская перестройка во многом является результатом патовой ситуации в Польше. В 1984 г. проницательный американский политолог Валери Бане суммировала дилемму в статье «Превращение Варшавского договора из советского актива в обузу» и предсказала уход СССР из Восточной Европы в течение следующего десятилетия, что, признаем, требовало тогда немалой научной смелости. В СССР «Солидарность» отозвалась ерническим стишком по поводу очередного повышения цен на водку, который заканчивался грозно: «Ну, а если станет больше, будет то, что было в Польше». Оставался выбор между крайними репрессиями и изоляцией от мира или реформами с неясными целями и средствами их достижения.
История, как мудро заметил Ежи Лец, не повторяется, однако она нередко рифмуется. При всей польской подготовке к демократии и романтической решимости отождествить полемические постулаты Милтона Фридмана с путем к свободе, постсоциалистический «транзит» оказался сродни холодному душу. Польша сменила зависимость от Москвы на новую ориентацию на Париж и Берлин, что, конечно, уже в истории бывало. Венгерский историк-экономист Иван Беренд в недавней серии работ показал с беспощадной убедительностью, что трудности развития Восточной Европы остаются сегодня удивительно похожими на трудности их досоциалистического периода.
Некогда поляки фрондерски гордились сохранением при социализме мелкой частной торговли и индивидуальных крестьянских хозяйств. Но либерализация экономики и открытие границ показали неконкурентоспособность этих секторов ничуть не меньше, чем социалистической тяжелой промышленности. Хотя Польше первой из бывших соцстран удалось вернуться к уровню 1989 г., боль была немалой и проблем остается предостаточно. Вступление в Евросоюз принесло блага, хотя вовсе не такие, как некогда Испании и Португалии.
Воодушевленное политическое единство времен борьбы с коммунистами рассыпалось на пестрый спектр нестабильных партий со значительными элементами демагогии и скандального популизма на флангах, и не только на флангах. Коррупционные скандалы стали эндемичной чертой политической жизни. Сама католическая церковь внезапно оказалась перед лицом проблем, которым нет очевидного решения: как построить отношения с обществом, в котором далеко не все теперь склонны следовать католическим догматам (начиная с запрета на противозачаточные средства), как примирять вновь возникающие классовые противоречия, как делить авторитет и сферы компетенции с новым либеральным государством, как относиться к возвращению Польши в куда менее религиозную Европу?
Открыто антироссийские настроения вновь стали характерной чертой польской политики. С этим так же трудно что-либо сделать, как трудно изменить историческое сознание, заданный шляхтой национальный типаж и геополитическое положение Польши. Увы, тактичности по-прежнему не достает в польско-российском дискурсе по поводу места в мире.
И все-таки какая у поляков до боли родная, узнаваемая и просто замечательная культура! Славяне все-таки, но очень западные.
А был ли нужен Пиночет?
В ДАЛЕКОМ оптимистическом 1965 г. в ответ на советские дебаты времен «оттепели» влиятельный британский экономист Алек Ноув (Александр Новаковский, род. в 1915 г. в Петербурге) опубликовал книгу с полемическим и актуальным по сей день заголовком «Был ли нужен Сталин?». Ноув поставил ребром вопрос о соотношении диктатуры и экономической рациональности в осуществлении быстрой модернизации. Спустя поколение проклятый вопрос возник уже по отношению к переходу от госсоциализма к рыночной экономике. С провалом горбачевской перестройки и ее демократической риторики умы наиболее радикальной интеллигенции захватил образ чилийского генерала Аугусто Пиночета. По элементарной оппозиционной логике выворачивания наизнанку (инверсии) официоза, прежний архизлодей теперь превратился в добродетельную аллегорию сурового, но экономически ответственного правителя, осуществившего исторический подвиг, о котором в неустроенной и косной России оставалось только мечтать. Пиночет стал примерно тем же, что на письменных бюро декабристов олицетворяли фрондерские бюстики Наполеона.