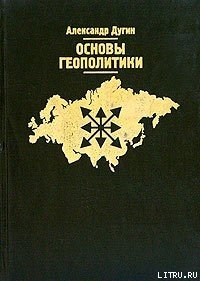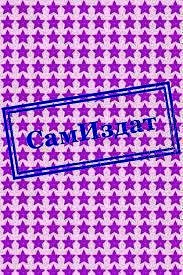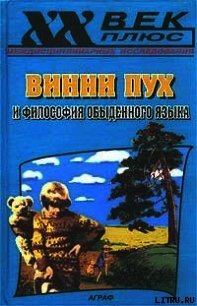Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков - Цымбурский Вадим Леонидович
Оценка неудавшейся попытки России в 1870-х вернуться в расклад Европы через «Союз трех императоров» – в качестве тыла и оплота нового европейского центра, созданного Вторым Рейхом, должна быть сформулирована с учетом того временного отрезка СВЦ II, на который эта попытка пришлась. Начало 1870-х – переход от инициали данной экспансивной волны; от полосы больших войн, в которых утвердился новый тип войны и военной политики, а сама Европа реорганизовалась (явный надлом Австро-Венгрии, кризис Франции) – к медиали, которой предстояло быть заполненной колониальным дележом ойкумены, уходом европейских стран в собственные дела и медленным вызреванием больших проектов Европы и мира. Эпизод с первым «Союзом трех императоров» можно рассматривать как неудавшуюся попытку России открыть в своем цикле новую фазу А, «проскочить» «эту фазу» на гребне того же милитаристского прилива, который отбросил Империю на восток в 1850-х. «Россия пробует вписаться вновь в Европу тогда, когда европейский экспансивный СВЦ входит в передышку-интермедию, большая игра угасает, и в неочевидности перспектив, открываемых создавшимся порядком, в русских как союзниках никто особенно не заинтересован. Франции хочется лишь того, чтобы немцы на нее не напали еще раз, Германии – чтобы французы не добивались реванша (на что те и так пока не способны) с помощью австрийцев или русских и чтобы Россия не ущемляла уже прибираемую под германское крыло Австро-Венгрию; последней бы желалось, чтобы русским духом не очень пахло на Балканах, а Англии – чтобы русские не маячили ни в Средиземноморье, ни в Азии…. До новых планов перекройки Европы и мира дело дойдет через 20–30 лет. Тогда будет востребована и Россия» [Цымбурский 1997а, 66 и сл.]. Итак, опыт с первым «Союзом трех императоров» должен рассматриваться не как кода нашего «европейского максимума», оборвавшегося с Крымской войной, а как предвестие будущего участия в Антанте. Это подтверждается и тем, что в начале 1870-х Империя пытается выступить партнером и союзником нового европейского центра, и в этом качестве пробует себе выкроить сферу влияния на Балканах, а вовсе не притязает, как при Николае I, на самостоятельную инициативу в деле обустройства европейского мира.
Наконец, парадоксальное обнаружение Россией-СССР в мировой политике «евразийских» черт в эпоху Ялтинской системы, которые могут рассматриваться как последний «европейский максимум» нашей Империи, объясняется именно ритмом Запада, его вхождением в СВЦ III, когда внутренняя биполярность западного сообщества трансформируется в расклад «West and the Rest». Отношения России-СССР с Евро-Атлантикой в эпоху Ялтинской системы были первым воплощением этого расклада. Все наши предыдущие «европейские максимумы» (и в эпоху «Священного Союза», и при намерении экспортировать Октябрьскую революцию в Европу) объективно были нацелены на перехват Империей роли восточного центра внутри западного сообщества, средством к чему были попытки установить российский контроль над Германией, создать из России и Германии одно целое в раскладе Запада при инициативе России. Ялтинская же система была «европейским максимумом» в рамках складывающейся конфигурации «West and the Rest», смещающей Россию за пределы Запада, превращающей ее в противовес западному миру как таковому (и в этом <плане> ничего не мог осуществить «прихват» СССР окраинных восточных территорий Германии). Пробуждение Китая в XX в., возникновение советско-китайского блока в 1950-х, заставляющее СССР считаться с китайскими инициативами и им подыгрывать (например, в годы Корейской войны); противостояние СССР с США в Азии и Африке, уже не как с центром «трансатлантической Европы», а как с мировой морской державой, воспроизводящее отношения России и Англии во времена прежних европейских интермедий; переориентация Китая с 1970-х на США и возникновение между Пекином и Вашингтоном антироссийского взаимопонимания, рассматриваемого Г. Киссинджером как род американо-китайской «Антанты», – все эти факты объясняются именно положением нашего последнего европейского максимума на становящийся расклад «West and the Rest», взаимоотрицающим столкновением двух стратегических ритмов, в которых одновременно жила Россия со времени ее притяжения к системе Запада.
Итак, на протяжении двух с половиной веков «политическая» жизнь Западной Евразии в огромной мере определялась функционированием двух международных систем: системы Запада и подстроенной подсистемы «Европа-Россия». Если биполярная система Запада (с противостоянием двух центров, опирающихся на прибрежье Атлантики и на Центральную Европу) представляла геополитическую аранжировку Западной цивилизации, то образование «Европа-Россия» может рассматриваться как биполярная геополитическая система цивилизаций, сцепленных воедино силовым балансом в северо-западной части материка, а вместе с тем и культурно-стилевым притяжением становящейся Империи к западному миру. Думается, каждого из этих двух факторов по отдельности было бы недостаточно. Само по себе притяжение двух цивилизационных сообществ не предполагает их сцепления в геополитическую целостность (скажем, Япония усвоила множество культурных достижений, выработанных Китаем, но до конца XIX в. не занимала сколько-нибудь заметного места в политических судьбах Китая). Напротив, само по себе включение иноцивилизационной державы в силовой баланс некоего цивилизационного сообщества, может и не привести к оформлению долгосрочной и ритмически функционирующей метасистемы (напомню окказиональное влияние Турции в европейском раскладе XVI-XVII вв. как силы, отвлекавшей на себя силы Австрии и тем самым подыгрывавшей французскому центру Европы).
В случае с Россией два фактора совпали. После крушения Византии у христианской России на евро-азиатском пространстве не было другого сообщества, столь близкого по культурно-религиозному языку и вместе с тем привлекающего зрелостью цивилизационных форм. С другой стороны, в течение переходной второй юги Запад как биполярная система оказывается приоткрыт для России – сперва как силы, наращивающей слабеющий восточный центр (Австрию), а потом как союзницы атлантического центра, бросающей вызов центру центрально-европейскому, уступившему место Австрии (Второму и Третьему рейхам). При этом, в отличие от Турции, втянутой сразу в несколько конфликтных систем, значимых для ее выживания (в средневосточно-каспийскую, где она противостояла Ирану), Россия XVIII в. чем далее, тем более соединяется силовым балансом исключительно с сообществом Запада, сперва опосредованно (через влияние Австрии и Пруссии на балтийско-черноморское пространство), а потом впрямую.
Таким образом, отличительная особенность системы «Европа-Россия» состоит в том, что стратегическая динамика этой системы становится не просто частью отношения между цивилизационными сообществами: каждая фаза в циклах этой системы представляла эти отношения в целом в совершенно новом ракурсе, оказывая тем самым воздействие на иные аспекты духовной жизни России. Вместе с тем, геополитическое «двоеритмие» России, выступающей в одном аспекте как часть западного мира, а в другом как противостоящий ему контрагент, может иметь ценность и для исследования иных планов функционирования двух цивилизаций. Здесь я напомнил бы замечательную разработку Б. Гройса [Гройс 1992], показавшего, как, начиная с первой половины XIX в., российские мыслители настойчиво проецируют на Россию представление об «ином» Западе, превращая Империю в своего рода теневую ипостась западной цивилизации. Очень интересны недавние разработки В.И. Пантина, показавшего, как «кондратьевские волны» западной экономики перекодируются в условиях России в социально-политические фазы реформ и контрреформ.
Российская геополитика эпохи Империи, в том числе в большевистской ипостаси последней, есть часть самоопределения Империи в качестве цивилизации-спутника Запада. Взаимодействие между волнами западного милитаризма и скоростью протекания стратегических циклов Империи есть лишь одна из форм, в которых совершалось перекодирование динамики Запада в динамику цивилизации-спутника.