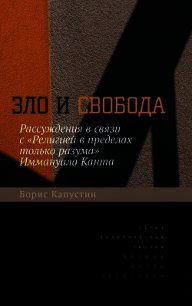Критика политической философии: Избранные эссе - Капустин Борис Гурьевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
«Блуждание» метафоры «революция» по «семантическим гнездам» не так произвольно, как оно выглядит у Бляхера. Можно и нужно прослеживать то, как именно определенный теоретический концепт «революции» связан с его бытованием на соответствующих полях культурного воображения и идеологии [214], и такие цепочки связей явят нам не размывание семантики «концепта», а, напротив, ее сгущение и кристаллизацию. Другое дело, что в каждую эпоху современного мира, в каждом его отдельном историко-политическом контексте мы обнаружим несколько таких цепочек, и их совокупным эффектом, действительно, окажется невозможность «окончательного» и «общепринятого» определения революции. Если же окидывать получающийся в результате этого «революционный дискурс» взглядом сверху, с той внешней по отношению к нему позиции, занять которую призывает политологов Бляхер [215], то этот дискурс предстанет всего лишь коллекцией разных мнений о революции или грядкой «семантических гнезд».
Однако во многих других статьях сборника содержатся достаточно строгие и концептуально развернутые, хотя противоположные друг другу, определения «революции». С ними я и буду сопоставлять мое определение предмета понятия «революция», приведенное в «предварительных замечаниях».
Революция и Современность
Политически актуальный поворот темы «революция и Современность» задается вопросом «возможны ли революции в наше время и в будущем?». Более общее теоретическое выражение этого вопроса таково – «является ли революция атрибутом Современности или только ее прологом, тем, что ввело ее в историю?». В историческом плане эта тема ставит вопрос «были ли революции до Современности или они – уникально современные явления?». Начнем с последнего из них.
Вопрос о «досовременных революциях» теоретически наиболее проработан в отношении классической античности, применительно к так называемым афинским демократическим революциям и римской революции (в период от братьев Гракхов до Юлия Цезаря). Аргументы оппонентов в этом споре известны.
С точки зрения М. Финли, перенос понятия «революция» на античность ведет к такой его «универсализации», которая делает его бессодержательным и эвристически бесплодным. Водораздел между современными революциями и теми явлениями, которые именуют античными «революциями», обусловлен следующими обстоятельствами. Последние «вписаны» в циклическую схему культурно-исторического времени, из которой они не могли выйти, тогда как современные революции определяются открытостью творимому ими будущему. Разный характер культурно-исторического времени, которому принадлежат и которое создают современные и «досовременные революции», – первое различие между ними. Второе состоит в том, что «досовременные революции» не приводили к глубоким изменениям социальных отношений, смене форм собственности и т. п., хотя результатом их бывала перестройка «политической конституции». Наконец, античные «революции» не выводили на арену борьбы и тем более – не приводили к власти новые социальные силы, создаваемые самой революцией из «социального материала» старого порядка. Политическая борьба в Риме и Афинах – это раунды схватки между одними и теми же соперниками (патрициями и плебеями, олигархами и демосом), хотя их организация могла меняться с ходом истории [216].
Аргументы оппонентов Финли, включая его предшественников, с которыми он ведет спор, в логическом отношении однотипны, но содержательно существенно различаются [217]. Они строятся на демонстрации тех или иных сходств, полагаемых решающими, между «античными революциями» и революциями современными и на показе соответствия тех или иных современных концепций революции политическим явлениям античности, «революционность» которых тот или иной автор стремится доказать [218].
В спорах об «античной революции» мы наблюдаем те же явления, которые применительно к современному дискурсу о революции Бляхер и Павлов описывают в терминах «семантической неопределенности» концепта «революция» и «блуждания» «революционной метафоры». Но на первый план выходит нечто новое: трудность и спорность идентификации исторических явлений в качестве революции. То, что для одних выглядит бесспорной и эпохальной революцией, для других не представляется революцией, либо оказывается революцией с «противоположным знаком» (скажем, «эфиальтова революция» может трактоваться и как «радикально демократическая», и как «консервативная», не говоря о том, что и в первом, и во втором качестве она может оцениваться противоположным образом).
Вывод, вытекающий из трудности и спорности опознавания неких явлений в качестве «революции», заключается в том, что революция не есть «абсолютное событие», как его понимает А. Филиппов. Последнее определяется им в качестве такого события, относительно которого у «данного сообщества наблюдателей» «есть уверенность не только по поводу его завершения, но и по поводу его начала». «Абсолютное событие» выступает таковым «в силу квалификации объекта, имплицирующей событие», поскольку иначе сами эти квалификации теряют смысл в сообществе наблюдателей (именно это характерно для «учредительных событий», т. е. революций, в первую очередь) [219]. Иными словами, идентификация «абсолютного события» «в наименьшей степени зависит от произвола наблюдателя» [220].
В случае с «античной революцией» мы видим, что в сообществе профессиональных «наблюдателей» нет ни малейших признаков единодушия в отношении» «абсолютных событий» [221]. Но от этого «революция» как квалификация событий не теряет смысл – он только множится. И это происходит потому, что «революция» есть именно относительное, а не абсолютное событие. Она есть культурный конструкт, и весь вопрос в том, отношением к чему обусловливается его относительность – к произволу наблюдателей, провозгласивших себя «экспертами», или к чему-то исторически и политически гораздо более значительному.
Это «более значительное» – устойчивые историко-культурные традиции, либеральные, консервативные, марксистские, анархистские и т. д., в рамках которых, при помощи которых и против которых мыслят «античную революцию» ее сторонники и противники [222]. Вне спора таких традиций вопрос об «античной революции» не был бы, по Брехту, «убедительным вопросом». И «убедительным» его делает борьба этих традиций, в условиях которой «власть над вопросом» (как он формулируется и решается) есть составляющая и проявление актуальной или потенциальной власти над конкурирующими традициями. Борьба за «символическую власть» есть то, что релятивизирует концепт «революции».
Традиции, о которых мы ведем тут речь, не следует сводить к сугубо интеллектуальным традициям, существующим в академическом мире. Традиции, о которых говорим мы, есть сторона и элемент более широких культурно-политических практик, которые соотносят себя с явлениями, именуемыми «античными революциями», и таким образом включают их в себя. Это то, что Вальтер Беньямин называл установлением констелляций «нашего» времени с определенным прошлым, в которых явления прошлого теряют личину застывших неизменных «фактов» и начинают жить в событиях и посредством событий, которые могут быть удалены от них на тысячелетия [223]. Это уже не чисто познавательное отношение к явлениям прошлого, и спор идет не о том, «какими они, в самом деле, были» (в чем видел суть исторического ремесла Ранке). Это деятельно-практическое отношение к прошлому, в котором из него черпают те или иные символические ресурсы, коды поведения и мысли, схемы мировосприятия, включаемые в практики настоящего. То, в каком виде явление прошлого живет в настоящем, и есть его «настоящая» и единственная действительность, над которой произвол «наблюдателей» не имеет власти. Но они могут наблюдать разные способы включения прошлого в настоящее, вернее, его включение в разные практики настоящего, это-то и будет отражаться в либеральных, консервативных, марксистских и т. д. версиях «античной революции», равно как и в отрицании того, что она вообще имела место.