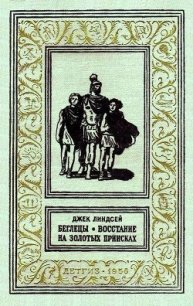Восстание элит и предательство демократии - Лэш Кристофер (полные книги .TXT) 📗
Попытка присоединить других к нашей точке зрения грозит той опасностью, что вместо этого присоединимся мы. В воображении мы должны открыться доказательствам своих противников, пусть только затем, чтобы их опровергнуть, но, в конце концов, убедить могут и те, кого мы хотели переубедить сами. Спор рискован и непредсказуем, поэтому он несет в себе зерно подлинного образования. Большинство из нас склонно видеть в нем (как и Липпман) столкновение соперничающих догм, соревнование в крике, где ни одна из сторон не уступит другой ни пяди. Но спор не выигрывается заглушением противников. Он выигрывается благодаря перемене мыслей противника, иногда это может произойти, если мы уважительно выслушаем противоположные доказательства и все же докажем их защитникам, что в их доказательствах что-то не так. В ходе этого мы можем также решить, что не так что-то и у нас самих.
Если мы будем настаивать на споре, как на самой сути образования, мы защитим демократию не только как самую действенную, но и как самую образовательную форму правления, такую, которая как можно шире распространяет сферу дебатов и, таким образом, заставляет всех граждан оглашать свои взгляды, рисковать своими взглядами, развивая в себе добродетели красноречия, ясности выражения и мысли и обоснованности суждения. Как замечал Липпман, малые сообщества являются классическим примером демократии – но, однако, не потому, что они "замкнуты", а просто потому, что они позволяют каждому своему члену участвовать в общественных дебатах. Вместо того, чтобы отказываться от прямой демократии, мы должны воссоздать ее на более широком уровне. С этой точки зрения пресса равноценна городскому собранию.
Вот что доказывал Дьюи, в сущности, — хотя, к сожалению, и не очень ясно в Обществе и его проблемах (1927), книге написанной в ответ на липпмановское уничижительное рассмотрение общественного мнения, липпмановское различие между истиной и информацией покоится на "зрительской теории знания", как объясняет Джеймс У. Кэри в Коммуникации как культуре. Знание, как понимал его Липпман, это то, что мы получаем, когда некий, предпочтительно научно подготовленный, наблюдатель представляет нам такой слепок с реальности, который способен опознать каждый из нас. Дьюи, с другой стороны, знал, что даже ученые спорят между собой. "Систематическое исследование", настаивал он, является только началом знания, а не его конечной формой. Знание, необходимое любому сообществу, – будь это сообщество научных исследователей или политическое сообщество – возникает только в форме "диалога" и "прямого обмена мнениями".
Примечательно, как указывает Кэри, что анализ сообщения, проводимый Дью, выделяет скорее слух, чем зрение. "Разговор – писал Дью, – имеет жизненное значение, не содержа в себе неподвижных, точно замороженных, слов письменной речи. Связи слуха с живой и отзывчивой мыслью и чувством несравненное более близки и разнообразны, чем у зрения. Зрение это зритель; слух – соучастник".
Пресса расширяет границы дебатов, заменяя устное слово письменным. Если прессе и нужно за что-то извиняться, так не за то, что письменное слово – слабый заменитель чистого знака математики. Важнее здесь, что письменное слово это слабый заменитель устного. Но все же это приемлемый заменитель постольку, поскольку за образец письменная речь берет речь устную, а не математику. Согласно Липпману, пресса ненадежна потому, что она никогда не сможет дать точного представления действительности, но только "символические картинки" или стереотипы. Анализ Дьюи предполагал более проникновенную критику. Как указывает Кэри, "пресса, видя свою роль в информировании общества, отбрасывает свою роль как средства продолжения разговора внутри нашей культуры". Приняв липпмановский идеал объективности, пресса больше не служит для того, чтобы культивировать "некоторые жизненно важные привычки" в сообществе: "способность следовать за ходом доказательств, схватывать точку зрения другого, раздвигать границы понимания, обсуждать альтернативные цели, к которым надо стремиться".
То, что подъем рекламной индустрии произошел бок о бок с подъемом индустрии общественных связей, помогает объяснить, почему пресса отказалась от своей наиболее важной функции – расширения арены общественного обсуждения – в тот же самый момент, когда стала более "ответственной". Ответственная пресса, в отличие от пристрастной, привлекала тех читателей, которых хотели привлечь рекламодатели. То были хорошо обеспеченные читатели, многие из которых, вероятно, считали себя независимыми избирателями. Эти читатели хотели быть уверены, что читают все новости, пригодные к печати, а не выражение собственных взглядов редактора и его, без сомнения, пристрастной точки зрения на события. Ответственность начала приравниваться к воздержанию от споров, потому что рекламодатели были готовы за это платить. Некоторые из рекламодателей были также готовы платить за производство сенсаций, хотя в целом они предпочитали простому количеству всей возможной аудитории – наиболее уважаемую ее часть. Чего они явно не предпочитали так это "мнения" – и не потому, что находились под впечатлением философских доводов Липпмана, но потому, что окрашенная личными пристрастиями передача событий не смогла бы нужной аудитории обеспечить. Несомненно, они также надеялись, что ореол объективности, признак объективного журнализма, подыграет и рекламным объявлениям, что окружают теперь все более истончающиеся столбики печатного текста.
В любопытном историческом перевороте реклама, рекламное освещение и другие способы коммерческого убеждения сами стали рядиться в одежды информации. Реклама и рекламное освещение заменили открытые дебаты. "Скрытые убеждатели" (как называл их Ване Пакард) заменили редакторов старого образца, эссеистов и ораторов, которые не делали тайны из своих пристрастий. Информация и рекламное освещение становятся все неразличимей. Большинство "новостей" в наших газетах – 40 процентов, согласно весьма заниженной оценке профессора Скотта Катлипа из университета Джорджии, – состоит из статей, испеченных в пресс-агентствах и бюро по общественным связям, затем их изрыгают обратно целыми и невредимыми "объективные" органы журнализма. Мы привыкли к идее, что большая часть места в так называемых газетах посвящена рекламе – по крайней мере две трети в большей части газет. Но если мы рассмотрим работу по связям с общественностью как еще одну форму рекламы, – что навряд ли станет большой натяжкой, раз частные, коммерчески мотивированные предприятия поддерживают и то и другое, – то мы должны будем прийти к выводу, что большинство "новостей" также состоит из рекламы.
Упадок пристрастной прессы и подъем нового типа журнализма, проповедующего строгие мерки объективности, не обеспечивают непрерывного поступления полезной информации. До тех пор, пока информация не начнет производиться в ходе непрерывных общественных дебатов, большая ее часть будет в лучшем случае никчемной, в худшем – обманчивой и манипулятивной. Все больше информации производится теми, кто хочет продвинуть что-то или кого-то: продукт, дело, политического кандидата или государственное лицо – без того, чтобы, защищать его на основании его достоинств, но также и без того, чтобы ясно рекламировать его как предмет своей личной заинтересованности. Большая часть прессы, в своем желании информировать общественность, стала каналом для распространения чего-то типа макулатурной почты. Как и почта – еще одна институция, прежде служившая для расширения сферы личных обсуждений и создания "комитетов по переписке", – теперь пресса доставляет огромное количество бесполезной, неперевариваемой информации, которая никому не нужна и большинство которой заканчивает жизнь в непрочитанной куче или мусорном ведре. Наиболее важным следствием этой одержимости информацией, кроме уничтожения деревьев под бумагу и все нарастающего груза "ненужного управленческого аппарата", является подрыв авторитетности слова. Когда слова используются как инструменты рекламного освещения и пропаганды, они теряют силу убеждения. Скоро они перестают вообще что-либо значить. Люди теряют способность употреблять язык точно, выразительно или даже отличать одно слово от другого. Устное слово подстраивается под письменное, тогда как должно бы быть наоборот, и обычная разговорная речь начинает вдруг походить на те сгустки жаргона, что мы постоянно встречаем в прессе. Обычная речь начинает звучать как выдаваемая "информация" – беда, от которой английский язык может так никогда и не оправиться.