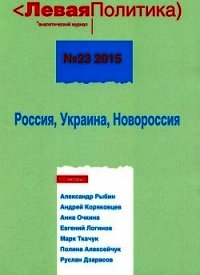Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали - Кагарлицкий Борис Юльевич (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
Противоречивость положения работников вела к параличу социальной воли. Именно это, наряду с дополнительными и (скрытыми от официальной статистики и налогов) «вторичными доходами», стало одной из причин того, что всеобщее недовольство не переросло в социальный взрыв.
Получая доходы в неформальном секторе, работники были заинтересованы и в сохранении своего основного рабочего места. Это была гарантия стабильности, социального статуса, пенсионного обеспечения. В подобных обстоятельствах люди не только не были склонны противопоставлять себя директору, но, напротив, пользовались всякой возможностью, чтобы, объединившись вокруг администрации, добиваться выживания своего предприятия.
Как отмечал Кудюкин, «корпоративно-патерналистская тенденция» с началом гайдаровских реформ даже усилилась. «Зависимость от предприятия возросла как с обострением ситуации на рынке труда, так и с резким ослаблением социальной защиты со стороны государства. Не стоит сбрасывать со счетов и значение полученных предприятием по бартеру товаров, распределяемых среди работников по ценам ниже рыночных» [168]. Широко практиковавшаяся в 1993—1995 гг. расплата с работниками продукцией собственного предприятия также усилила зависимость трудящихся от своего завода. Наконец, массовое акционирование предприятий, сопровождавшееся раздачей акций работникам, вовсе не способствовало становлению свободного труда. Не получая значительных дивидендов и фактически не участвуя в принятии решений, работник так и не стал совладельцем средств производства. Зато акция стала дополнительным способом прикрепления работника к конкретному предприятию. Ни пресса, ни профсоюзные информационные отчеты, ни исследования не зафиксировали ни одного случая, когда работники приватизированных «в пользу трудящихся» предприятий отказались бы от забастовки, мотивируя это своими интересами в качестве собственников. Зато причинами отказа от стачки постоянно назывались страхи перед потерей работы и перед репрессиями.
Теперь руководитель предприятия становился одновременно руководителем коллектива собственников и полномочным распорядителем совместного имущества. Поскольку доступ к информации о реальном положении дел у администраторов несравненно больше, нежели у работников, это давало директорам дополнительные возможности косвенного контроля за поведением «собственников» [169].
В общем, на протяжении 1992—1993 гг. наблюдалось не движение к «западной модели», а отдаление от нее. Ведь в конце советского времени 1990—1991 гг. патернализм оказывался как бы «за скобками» конфликта. Вопросы социальной защиты были так или иначе решены в рамках советской системы, а зоной конфликта, как и на Западе, оказывались вопросы заработной платы, охраны труда и порой профсоюзные права. По внешности трудовой конфликт образца 1990—1991 гг. практически не отличался от западного. Зато с 1992 г. нагрузка на патерналистскую модель стремительно возрастает, и одновременно становится очевидным отсутствие альтернатив. Реальный выбор, стоящий перед трудящимися, — не между патернализмом и свободой, а между социальной защищенностью и ее отсутствием. У рабочего нет возможности выбрать: жилье от предприятия, муниципальное жилье или, наконец, жилье по доступным ценам на рынке. Он все более привязан к предприятию, зависим от администрации.
Руководство предприятий уже не подчинялось партийному контролю, но продолжало культивировать корпоративные связи внутри своей отрасли. «Свято место пусто не бывает», местная администрация, зачастую опиравшаяся на бывший аппарат областных комитетов партии, стала все более активно вмешиваться в дела расположенных на ее территории компаний. Если в советское время секретарь обкома использовал свое политическое влияние в Москве, чтобы «выбивать фонды», доставать дефицитное оборудование и товары ширпотреба, то теперь, в условиях хронического дефицита инвестиций, местная власть стала совладельцем, кредитором, спонсором и защитником предприятий. Защита эта, впрочем, нередко напоминала рэкет. Тех, кто не хотел дружить с местной властью, отдавали на расправу мафии.
Трудящиеся оказались в двойной зависимости — от администрации предприятий и от региональной власти. И те и другие старались показать, что в отличие от столичного финансового капитала готовы «заботиться о людях», решать социальные проблемы. Но в большинстве регионов для этого не было ни средств, ни возможностей.
В условиях, когда корпоративизм все больше становился решающим фактором социальной организации, он не мог не проявиться и в политике, особенно на уровне местной власти. В Латинской Америке это явление принято называть — «касикизмом».
«Касик» — слово, некогда обозначавшее индейского вождя в Мексике, — уже прочно вошло сначала в испанский язык, а потом и в международный политический лексикон. Яркие примеры «касикизма» можно было найти не только в Мексике, но и в Бразилии, Колумбии, Боливии. «Касикизм» сложился в Латинской Америке, в годы, когда она была прежде всего сырьевым придатком Запада, местный рынок был слабо развит, а экономика предельно зависима от иностранного капитала. Речь шла о том, что местные администраторы превращаются в полновластных хозяев своих регионов, о политической коррупции. Центральная власть мирится с административным произволом на местах, поскольку сама нуждается в поддержке регионального начальства. Права и политические возможности различных регионов не одинаковы — они в конечном счете зависят от влияния того или иного «касика» и, разумеется, от экономического веса стоящих за ним группировок.
Российские регионы оказались в большинстве своем слабы экономически, но сильны политически. Лишь немногие из них сделались самодостаточными. Они относительно малы. Нарезаны административные границы были в основном при Сталине — для удобства централизованного управления. Например, Кемеровская область была специально организована для более эффективного управления угольной промышленностью. После 1991 г. она стала одним из 89 «субъектов федерации».
Экономическая слабость регионов приводила к тому, что ресурсы перераспределялись через Москву. Здесь же происходило накопление капитала. К тому же столица — окно на Запад, что предельно важно в зависимой стране. Но совершенно естественно, что при такой системе региональные элиты не могли не пытаться за счет политических действий компенсировать свою экономическую слабость. Концентрируя власть на местах, они получали возможность торговаться с центром, выгодно продавая свою политическую поддержку.
Децентрализованный авторитаризм допускает больший произвол, нежели централизованный. В первом случае гражданам приходится иметь дело с одним самодуром, а во втором — с восемью десятками. В первом случае власть главного начальника сдерживает бесчинства начальников местных, во втором — дополняет их.
На местах происходило то же, что и в центре. Под разговоры о федерализме страна получила странное соединение централизованного государства и конфедерации, соединяющее недостатки обеих систем, но не их достоинства. В регионах появилось 89 мини-самодержцев, чья власть так же бесконтрольна, как и власть кремлевского Большого Брата. Единственным, что сдерживало произвол удельных князей в регионах, оказывалась такая же неограниченная власть президента в центре. В конечном счете все определяется соотношением сил. К середине 1990-х гг. формируются авторитарные режимы в масштабах одной отдельно взятой провинции — будь то Калмыкия, Башкирия или Татарстан. Некоторые губернаторы напротив предлагали себя в качестве образцов просвещенного самодержавия, другие правили, не слишком оглядываясь на закон. Выборность губернаторов, бесспорное благо с точки зрения теории, в реальной политической жизни вовсе не обязательно означала демократию, ибо подтасовка результатов голосования стала обычным делом, варьируясь от совершенно скандальной на Северном Кавказе до стыдливо умеренной в европейской России [170].