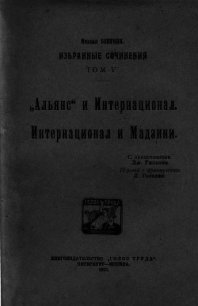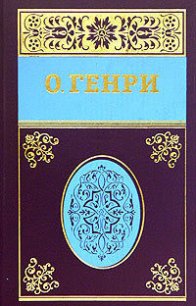Избранные сочинения. Том II - Бакунин Михаил Александрович (е книги .TXT) 📗
Итак, метафизики ищут мораль в отношениях людей между собою и в то же время они утверждают, что она есть безусловно индивидуальный факт, божественный закон, вписанный самим Богом в сердце каждого человека, независимо от его отношений с другими человеческими существами. Таково непобедимое противоречие, на котором основана теория нравственности идеалистов. Раз, прежде чем я вступил в какие либо отношения с обществом, и, следовательно, независимо от какого бы то ни было влияния общества на меня, я ношу нравственный закон, вписанный заранее самим Богом в мое сердце, то этот нравственный закон необходимо чужд и безразличен, если не не враждебен, моему существованию в обществе. Он не может касаться моих отношений с людьми и может определять лишь мои отношения с Богом, как это вполне логично утверждает теология. Что же касается людей, они с точки зрения этого закона мне совершенно чужды. Так как нравственный закон создан и вписан в мое сердце помимо всяких моих отношений с ними, то ему нет до них никакого дела.
Но, скажут мне, этот закон как раз повелевает вам любить людей, как самого себя, ибо они суть вам подобные, и ничего не делать им, чего бы вы не хотели, чтобы было сделано вам самим, — соблюдать в отношении их равенство, одинаковую нравственность, справедливость. На это я отвечу, если правда, что нравственный закон содержит в себе такое повеление, я должен заключить из этого, что он не был создан и не был изолированно написан в моем сердце. Он необходимо предполагает существование, предшествующее моим отношениям с другими людьми, подобными мне, и, следовательно, не создает этих отношений, но находя их уже естественно установившимися, он лишь регулирует их и является лишь в некотором роде развитым, проявлением, об'яснением и продуктом их. Отсюда явствует, что нравственный закон есть не индивидуальное, но социальное явление, создание общества.
Если бы было иначе, нравственный закон, вписанный в моем сердце, был бы нелепостью. Он регулировал бы мои отношения с существами, с которыми я не имел никаких отношений, и о существовании которых я не подозревал.
На это у метафизиков имеется ответ. Они говорят, что каждый человеческий индивид, рождаясь, приносит с собой закон, вписанный рукой самого Бога в его сердце, но что этот закон находится сперва в скрытом состоянии, лишь в виде возможности, не осуществленной и не проявленной для самого индивида, который не может осуществить его, и которому удается расшифровать его в себе самом, лишь развиваясь в обществе себе подобных, — одним словом, что человек приходил к сознанию этого закона, присущего ему, лишь путем отношений с другими людьми.
Это раз'яснение, хотя и не правдоподобное, но вполне приемлемое, приводит нас к доктрине врожденных идей, чувств и принципов. Доктрина эта известна. Человеческая душа, безсмертная и безграничная по своей сущности, но телесно определенная, ограниченная, отягощенная и, так сказать, ослепленная и уничтоженная в своем реальном существовании, содержит в себе все эти вечные и божественные принципы, но без своего ведома, даже совершенно не подозревая сперва о них. Безсмертная, она необходима должна быть вечной в прошлом, как и в будущем. Ибо, если она имела начало, она неизбежно должна иметь конец и отнюдь не была бы бессмертной. Чем была она, что делала на протяжении всей этой вечности, лежащей позади нея? Одному Богу это известно. Что касается ее самое, она этого не помнит, она забыла. Это великая тайна, полная вопиющих противоречий, и чтобы разрешить их, нужно прибегнуть к высшему противоречию, к Богу. Во всяком случае, она всегда обладает, сама того не подозревая, в какой то неведомой таинственной области своего существа всеми божественными принципами. Но, затерянная в своем земном теле, огрубевшая, вследствие грубо материальных условий своего рождения и своего существования на земле, она уже не способна их осознать и даже не в силах вспомнить о них. Это все равно, как если бы она их вовсе не имела. Но вот встречается в обществе множество человеческих душ, которые все одинаково бессмертны по своей сущности и все одинаково огрубелые, приниженные и оматериализовавшияся в своем реальном существовании. Сначала они до такой степени мало узнают друг друга, что одна материализованная душа пожирает другую. Как известно людоедство было первым обычаем человеческого рода. Затем, продолжая ожесточенную войну, каждая стремится поработить все другие, — это долгий период рабства, период, который еще далеко не закончился и ныне. Ни в людоедстве, ни в рабстве нельзя найти без сомнения никаких следов божественных принципов. Но в этой непрестанной борьбе между собой народов и людей заключается история, и именно вследствие безчисленных страданий, являющихся самым явным результатом ее, души мало по малу пробуждаются, выходя из своего огрубения, приходя в себя, все больше распознавая себя и углубляясь в свое интимное естество; вызываемые к тому же и побуждаемые одна другою, они начинают вспоминать себя, сперва предчувствовать, а затем различать и усваивать более отчетливо принципы, которые Бог испокон веков начертал в них собственной рукой.
Это пробуждение и это воспоминание происходит сначала вовсе не в душах, более безконечных и более бессмертных. Это было бы нелепостью, ибо бесконечность не допускает сравнительных стеснений, так что душа величайшего идиота столь же бесконечна и бессмертна, как и душа величайшего гения.
Оно происходит в душах наименее грубо материализованных и, следовательно, более способных пробудиться и вспомнить себя. Таковы люди гениальные, боговдохновенные, получившие откровение, законодатели, пророки. Раз эти великие и святые люди, просвещенные и побуждаемые духом, без помощи которого ни что великое и доброе не делается в этом мире, обрели в себе самих одну из тех божественных истин, которые каждый человек бессознательно носит в своей душе, людям более грубо материализованным делается, конечно, гораздо легче сделать то же самое открытие в себе самих. Таким то образом всякая великая истина, все вечные принципы, проявившиеся сперва в истории, как божественные откровения, сводятся позднее к истинам, без сомнения божественным, но которые тем не менее каждый может и должен найти в себе самом и признать их, как основы своей собственной бесконечной сущности или своей бессмертной души. Этим об'ясняется, как истина, первоначально открытая одним единственным человеком, распространяется мало по малу во вне и создает учеников, сперва малочисленных и обычно преследуемых, как и сам учитель, массами и оффициальными представителями общества, но распространяясь все больше и больше по причине этих самых преследований, она кончает тем, что рано или поздно овладевает коллективным сознанием, и после того, как она. долго была истиной, исключительно индивидуальной, она превращается в конце концов в истину, принятую обществом. Осуществленная плохо-ли, хорошо-ли в общественных и частных учреждениях общества, она становится законом.
Такова общая теория моралистов метафизической школы. На первый взгляд, я сказал уже, она весьма приемлема и кажется примиряющей самые несогласуемые вещи: Божественное откровение и человеческий разум, бессмертие и абсолютную независимость индивидов с их смертностью и абсолютной зависимостью, индивидуализм с социализмом. Но, исследуя пристальнее эту теорию и ее следствия, нам легко будет признать, что она есть ни что иное, как видимое примирение, прикрывающее фальшивой маской рационализма и социализма, старинное торжество божественной нелепости над человеческим разумом и индивидуального эгоизма над социальной солидарностью. В конце концов она приводит к абсолютному изолированию индивидов и, следовательно, к отрицанию всякой морали.
Несмотря на претензии этой теории на чистый рационализм, она начинает с отрицания всякого разума, с нелепости, с фикции безконечного, затерявшегося в конечном, или с допущения души, многих бессмертных душ, заложенных и заключенных в смертных телах. Чтобы исправить и об'яснить эту человечность, эта теория вынуждена прибегать к другой совершеннейшей нелепости, к Богу, к своего рода бессмертной, личной, неизменной душе, заложенной и заключенной в преходящем и смертном мире, и сохраняющей все же свое всеведение и свое всемогущество. Когда этой теории задают нескромные вопросы, которых она не в состоянии разрешить, ибо нелепость не разрешима и не об'яснима, она отвечает страшным словом: „Бог"! — таинственным абсолютом, который не обозначая абсолютно ничего, или обозначая невозможное, по ее мнению, разрешает и об'ясняет все. Это ее дело и ее право, ибо потому то она, наследница и более или менее послушная дочь теологии, и называется метафизикой.