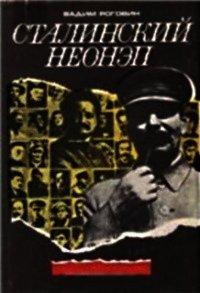1937 - Роговин Вадим Захарович (мир бесплатных книг .txt) 📗
Если выступление Вышинского диктовалось конъюнктурными мотивами, то другое «диссонирующее» выступление явилось, по сути, единственным честным выступлением на пленуме, ставившим, хотя и в осторожной форме, под сомнение «материалы», добываемые «органами». Я имею в виду краткую речь М. М. Литвинова, не произнёсшего ни единого слова на протяжении всей предшествующей работы пленума. Как бы не замечая направленности и тональности всех других выступлений, Литвинов поднял вопрос о «липовых» сигналах зарубежной агентуры НКВД. Он рассказал, что при каждой его поездке за границу от резидентов поступают сообщения о подготовке «покушения на Литвинова». Игнорируя реплики наиболее ярых сталинистов, явно недовольных переводом обсуждения в эту плоскость, Литвинов заявил, что ни одно из таких сообщений не подтвердилось. «Когда что-нибудь готовится, никогда не бывает, чтобы это было совершенно незаметно, а тут не только я не замечал (подготовки покушений.— В. Р.), охрана не замечала, больше того, местная полиция, которая тоже охраняла, она тоже ничего не замечала. (Берия: Что, вы полагаетесь на местную полицию?)… Я всё это говорю к тому, что имеется масса никчемных агентов, которые, зная и видя по газетам, что „Литвинов выехал за границу“, чтобы подработать, рапортуют, что готовится покушение на Литвинова. (Ворошилов: Это философия неправильная.) Совершенно правильная. Это указывает на то, что эти агенты подбираются с недостаточной разборчивостью… и я думаю, что если так дело обстоит за границей, то, может быть, что-то подобное имеется по части агентуры и в Советском Союзе» [677].
Эти недвусмысленные слова не получили «отпора» на пленуме — видимо, потому, что слишком высок был авторитет наркома иностранных дел, и Сталин на этом этапе не хотел ввязываться в борьбу с ним. Выступление Литвинова оказалось как бы «незамеченным» и потонуло в массе «разоблачительных» выступлений.
В заключительном слове Ежов усилил нападки на Ягоду, прежде всего за его неспособность внедрить агентуру в окружение Троцкого и Седова. В ответ на реплику Ягоды: «Я всё время, всю жизнь старался пролезть к Троцкому», Ежов незамедлительно отреагировал следующими словами: «Если вы старались всю жизнь и не пролезли — это очень плохо. Мы стараемся очень недавно и очень легко пролезли, никакой трудности это не составляет, надо иметь желание, пролезть не так трудно» [678]. Это заявление не было пустым хвастовством: Ежов, надо полагать, имел в виду вербовку Зборовского.
В резолюции по докладу Ежова повторялась формулировка сентябрьской телеграммы Сталина и Жданова о запоздании с разоблачением троцкистов и указывалось, что НКВД «уже в 1932—33 гг. имел в своих руках все нити для того, чтобы полностью вскрыть чудовищный заговор троцкистов против Советской власти» [679].
Резолюция закрепляла ликвидацию последних элементов цивилизованной пенитенциарной системы в СССР. В ней говорилось, что прежнее руководство НКВД, проводившее «неправильную карательную политику, в особенности в отношении троцкистов», установило «нетерпимый… тюремный режим в отношении осуждённых, наиболее злостных врагов Советской власти — троцкистов, зиновьевцев, правых, эсеров и других. Все эти враги народа, как правило, направлялись в так называемые политизоляторы, которые… находились в особо благоприятных условиях и больше походили на принудительные дома отдыха, чем на тюрьмы… Арестованным предоставлялось право пользоваться литературой, бумагой и письменными принадлежностями в неограниченном количестве, получать неограниченное количество писем и телеграмм, обзаводиться собственным инвентарём в камерах и получать наряду с казённым питанием посылки с воли в любом количестве и ассортименте» [680].
Пленум обязал ведомство Ежова «довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных агентов фашизма до конца с тем, чтобы подавить малейшие проявления их антисоветской деятельности» [681].
XXXIII
Февральско-мартовский пленум о «партийной работе»
На вечернем заседании 3 марта пленум перешёл к рассмотрению последнего пункта повестки дня: «О политическом воспитании партийных кадров и мерах борьбы с троцкистскими и иными двурушниками парторганизаций». Об особой значимости этого вопроса свидетельствовало то, что с докладом по нему выступил сам Сталин.
Поскольку сталинский доклад был опубликован в переработанном виде и явился основным директивным документом, ориентирующим «кадры» в законах великой чистки, его содержание будет рассмотрено в следующей главе. Здесь же мы остановимся только на выступлениях в прениях, развивавших основные положения доклада.
Все выступавшие с энтузиазмом говорили о том исключительном впечатлении, которое произвел на них сталинский доклад. «Я, как и другие товарищи, просто восхищён докладом Сталина» [682],— заявлял секретарь Горьковского обкома Прамнэк. «Сталин бьёт, бьёт в одну точку и никак до мозгов, чёрт возьми, у нас не доходит на деле-то» [683],— каялся как бы от имени всех участников пленума Евдокимов.
Об испытанном ими облегчении после доклада Сталина говорили два недавно побитых секретаря. «После доклада т. Сталина,— заявлял Шеболдаев,— стало легче потому, что доклад показал те истинные, действительные размеры того, что угнетало меня очень крепко и, я думаю, угнетало не только меня, а угнетало и очень многих… Сейчас всё стало совершенно ясным, и, кроме того, показано направление, по которому должна идти борьба с этим врагом, показан путь, средства, при помощи которых можно вылечиться от той болезни, которой, скажем, страдал я, и от которой выздоравливал не очень легко» [684]. Вторя Шеболдаеву, Постышев утверждал: «После доклада товарища Сталина… легче стало как-то… потому что товарищ Сталин дал всё-таки не отрицательную оценку и нам, наделавшим больше других секретарей ошибок» [685].
На выступлении Постышева имеет смысл остановиться особо, потому что фрагмент этого выступления был подан в докладе Хрущёва на XX съезде как наиболее яркий пример испытываемых некоторыми участниками февральско-мартовского пленума сомнений «в правильности намечавшегося курса на массовые репрессии под предлогом борьбы с двурушниками» [686]. Хрущёв процитировал фрагмент о Карпове, который в речи Постышева выглядел следующим образом [687]: «Я вот так рассуждаю: прошли всё-таки такие крутые годы, такие повороты были, где люди ломались, или оставались на крепких ногах, или уходили к врагам — период индустриализации, период коллективизации, всё-таки жестокая шла борьба партии с врагами в этот период. Я никак не предполагал, что возможно пережить все эти периоды, а потом пойти в лагерь врагов. А вот теперь выясняется, что он (Карпов.— В. Р.) с 1934 года попал в лапы к врагам и стал врагом. Конечно, тут можно верить этому, можно и не верить. Я лично думаю, что страшно трудно после всех этих годов в 1934 г. пойти к врагам. Этому очень трудно верится… Я себе не представляю, как можно пройти тяжёлые годы с партией, а потом, в 1934 г., пойти к троцкистам. Странно это». Этот представленный Хрущёвым фрагмент постышевской речи выглядел так «смело» и убедительно, что после его зачтения на XX съезде возникло зафиксированное стенограммой «движение в зале» [688].
Однако в докладе Хрущёва данный фрагмент был представлен в намеренно усечённом виде. В действительности эти рассуждения Постышева были прерваны (после отточия) репликой Молотова: «Трудно верить тому, что он только с 1934 г. стал врагом? Вероятно, он был им и раньше». Вслед за этим Постышев, упомянув ещё раз о своих «сомнениях», присоединился к замечанию Молотова: «Какой-то червь у него был всё это время. Когда этот червь у него появился — в 1926 ли, в 1924 ли, в 1930 г., это трудно сказать, но, очевидно, червь какой-то был» [689].
Несмотря на крайнее усердие Постышева на всём протяжении пленума, он оказался на пленуме одним из «мальчиков для битья», мишенью осуждения со стороны других ораторов. Правда, его обвиняли не в потворстве врагам, а в насаждении своего культа и связанного с ним подхалимства и угодничества. Тому были приведены серьёзные доказательства. Мехлис сообщил, что лишь в одном номере киевской газеты фамилия Постышева называлась шестьдесят раз [690]. Более подробно эту тему затронул Кудрявцев, заменивший Постышева на посту секретаря Киевского обкома. Он говорил, что в Киевской парторганизации широко практиковались «парадность и шумиха, самовосхваления и телячьи восторги… многочисленные приветствия, бурные овации и все стоя встречают руководителя обкома. Обстановка шумихи вокруг т. Постышева зашла так далеко, что кое-где уже громкими голосами говорили о соратниках Постышева, ближайших, вернейших, лучших, преданнейших, а те, кто не дорос до соратников, именовали себя постышевцами». Кудрявцев рассказал и о том, как Постышев, желая зарекомендовать себя «другом детей», посылал от своего имени в другие республики дорогостоящие подарки детям, а «подхалимы представляли т. Постышева в виде доброго богатого дяди, который из рога изобилия осыпает детей подарунками (украинское слово.— В. Р.): постышевскими ёлками, постышевскими комнатами, постышевскими игрушками, дворцами пионеров, детскими площадками и парками и т. д.».