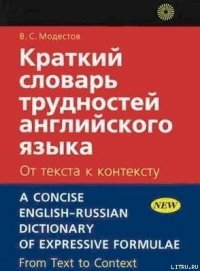Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий - Мечковская Нина (книги онлайн полностью бесплатно .TXT) 📗
В латинской раннехристианской традиции отношение к имени Бога выразилось в принципе Nomen Dei non potest litteris explicari (‘Имя Бога не может быть выражено буквами’).
В иудаистической литературе до сих пор обозначение Бога не записывается полностью, в том числе на русском языке (пишется так: Б-г, Б-га, Б-жественность Г-спода и т.п.).
У Даля в Словаре есть речение: Грамота не колдовство (II, 135). Но, как известно, всякое отрицание возникает позже утверждения: Грамота не колдовство – это возражение тому, для кого грамота – колдовство. Для фидеистического сознания письменные знаки – это потенциально более действенное средство магии, чем приговоры и нашепты; для магии нужен хотя бы намек на тайну, полшага из повседневности, и в буквах этот намек есть (ведь еще в прошлом веке письмо не было заурядным делом в повседневном общении большинства людей). Поэтому люди верили в оберегающую силу букв, спасительность записанного имени Бога, в ладанки и амулеты с молитвами и священными словами.
Апокриф «Семьдесят имен Богу» (рукопись XVI–XVII вв. Иосифо-Волоколамского монастыря) советовал для самообороны записать и носить с собою 70 «имен» (символических и метафорических наименований) Христа и 70 «имен» Богородицы: «Сиа знаменна егда видиши и сиа имена егда прочитаеши непобежден будеши в рати и от всех враг избавлен будеши и от напрасния смерти и от страха нощнаго и от действа сотонина. <…> А се имена господня числом 70. Да еже их имат и носить с собою честно от всякаго зла избавлен будет: власть, сила, слово, живот, милость (цит. с графическими упрощениями по изданию: Тихонравов Н.С. Памятники отреченной литературы. СПб., 1863. Т. II. С. 339).
Черная (вредоносная) магия нередко заключалась в уничтожении или порче записанного имени. В латыни глагол defigo ‘втыкать, вбивать, вколачивать’ имел также значение ‘проклинать’ (например, у Овидия оборот defigo nomina cera (при буквальном переводе ‘пронзить восковое имя’) означает именно ‘проклинать’. По сведениям И. X. Дворецкого (Латинско-русский словарь, с. 297), проклятие состояло в том, что булавкой прокалывалось написанное на воске имя предаваемого проклятию.
В истории письменной культуры бывали конфликты, вызванные фидеистически пристрастным отношением к самому начертанию букв и особенностям гарнитуры шрифта.
В 1708–1710 гг. с санкции Петра I была проведена реформа русского письма. Гражданские (светские) книги стали печатать округлыми и легкими, поэтому как бы светлыми шрифтами (близкими, кстати, к шрифту скорининских изданий Библии). Кроме того, в гражданской печати и письме перестали использовать некоторые буквы церковнославянской азбуки (кириллицы), избыточные для русской фонетики. Церковные книги печатали по-прежнему, сохраняя все знаки кириллицы и само начертание букв, близкое к древнейшему торжественному почерку церковнославянских рукописных книг – уставу. Однако старообрядцы долго не могли смириться с утратой прежней кириллицы. Еще в сере-дине прошлого века они говорили: Гражданская грамота от антихриста (приводится у Даля в сборнике «Пословицы русского народа»).
С фидеистическим восприятием гарнитуры шрифта связан и такой факт: когда русский поэт-акмеист Вл. Нарбут решил, по сугубо эстетическим мотивам, набрать сборник своих стихов «Аллилуйа» (1912) церковнославянским (а не гражданским) шрифтом, по распоряжению церковной цензуры напечатанная книга была конфискована.
26. Некоторые следствия поклонения письму: орфографические распри
В сознании людей письмо противостоит «текучей» устной речи: письмо – это воплощенная стабильность, самый заметный и надежный представитель письменной культуры народа. Поэтому языковой фидеизм ярче всего проявляется в отношении к письменным знакам, и особенно это характерно для культур, связанных с религиями Писания.
Самое объемное из известных рукописных славянских сочинений о языке – «Книгу о писменах» – написал Константин Костенечский, болгарский книжник XV в., последователь патриарха Евфимия Тырновского и исихазма. Его книга обличает «погрешающих» в письме и защищает орфографические установления Евфимия (о Тырновской книжной школе и реформе патриарха Евфимия см. §100). Грозя анафемой, Константин прямо связывает с ошибками в письме уклонение в ересь. В частности, в написании единородн?и вместо единородный он видит не просто смешение букв Ы и I (вообще типичное для сербско-болгарского извода церковнославянского языка), но ересь (поскольку единородный – это форма единственного числа, а единородн?и – множественного, при том что речь идет о Иисусе Христе, который, по Евангелию, был единородным, т.е. единственным сыном Бога): Единем симь писменем…являвши нестор?еву ересь в две лици бога секуща (цит. по изданию И. В. Ягича, см.: Ягич, 1885–1895, 401).
Об утрате «фиты» (буквы, избыточной в церковнославянском языке) Константин пишет, что с ее потерей погубите главная утвержден?а писаниiом (Ягич, 1885–1895, 404). В знаках письма он часто видит как бы мир людей: об утрате букв говорит как о смерти человека или о потере удов тела (‘частей тела’); согласные сравнивает с мужчинами, гласные – с женщинами, надстрочные знаки (титло, знаки ударения и некоторые другие) – с одеяниями, «паерок» (вид надстрочных знаков) – со сторожем или свидетелем и т.д. Вообще для Константина и его последователей в церковнославянской письменности орфография – это главный объект внимания; с ней они связывали правильность священного текста и чистоту веры.
Василий Кириллович Тредиаковский, один из самых глубоких и лингвистически одаренных русских авторов XVIII в., полемизируя со старинными воззрениями на орфографию, писал: «Новость или перемена в ортографии не церковная татьба: за нее не осуждают на смерть. Также новость эта и не еретичество: проклятию за сию не могу быть предан. <…> Вся распря орфографическая есть распря токмо грамматическая, а не теологическая, которая толь много упрямых произвела еретиков» (Тредиаковский, [1748] 1849, 68). Иными словами, в восточнославянской традиции отношение к орфографии как к сфере сакрального требовалось опровергать еще в 1748 г.
Но и после того, как орфографию перестали отождествлять с ортодоксией (вероисповедной чистотой), в письменных традициях, связанных с религиями Писания, столетиями сохранялись представления об особой важности орфографии. Пиетет перед орфографией – в ущерб вниманию к другим, более содержательным сторонам языка, – к сожалению, сохраняется до сих пор. Именно орфография чаще всего отождествляется популярным сознанием с языком (и ошибки в орфографии – с незнанием языка).
В силу архаических традиций школьного образования, люди склонны считать, что орфографические нормы – самые главные в языке. Это объясняется также тем, что орфографические нормы, в сравнении с нормами других уровней языка – орфоэпией, морфологическими и синтаксическими нормами, нормами словоупотребления, – самые определенные и простые. Их легче всего описать правилами, кодифицировать в орфографическом словаре и требовать их соблюдения (т.е. исправлять орфографические ошибки). Пройдя в детстве жесткий орфографический тренинг, люди настроены по отношению к орфографии очень консервативно и не склонны здесь что-либо менять. Поэтому так трудно провести даже скромные подновления орфографии, не говоря уж о реформах таких традиционных систем, как, например, китайская иероглифика или английское письмо, крайне отдалившееся от звучащей речи.
27. Еще одно следствие культа письма: алфавит как элемент геральдики
«Свой» (национальный, этнический) язык достаточно часто выступает в качестве фундамента или одного из краеугольных камней этнической самоидентификации народа (см. §1; 4.2). При этом алфавит, графико-орфографическая система языка обладают особой социально-семиотической нагрузкой, значительно более выразительной и устойчивой, чем в сопоставимых явлениях звучащей речи. Письмо – это своего рода опознавательные знаки национально-религиозной самоидентификации народа, его культурно-политических ориентиров и устремлений.