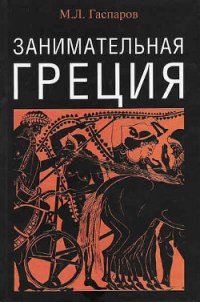Избранные статьи - Гаспаров Михаил Леонович (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Самым законченным образцом этой экспериментальной манеры стало стихотворение в прозе «Люди в пейзаже» (типичное название картины). Напечатанное в знаменитом сборнике «Пощечина общественному вкусу» (1912), оно едва ли не в наибольшей степени вызвало негодование критики, посчитавшей его за издевательство. «Долгие о грусти ступаем стрелой. Желудеют по канаусовым яблоням, в пепел оливковых запятых, узкие совы. Черным об опочивших поцелуях медом пуст осьмигранник и коричневыми газетные астры. Но тихие. Ах, милый поэт, здесь любятся не безвременьем, а к развеянным облакам! Это правда: я уже сказал. И еще более долгие, опепленные былым, гиацинтофоры декабря…» Совокупность образов этого текста легко складывается в «пейзаж с фигурами»: вертикальные яблони и тополя, вдали стога и хижины, вверху развеянные облака и павлиньи звезды, прямые идущие фигуры, крупный план деталей («все плечо в мелу и двух пуговиц»), общий тон — лунно-голубой, общее настроение — грусть о былом; в этот пейзаж клином врезается другой, инородный, с зимней рекой и гилейскими камышами, да непонятными остаются в лунном свете «залегшие спины», уходящие вдаль. Но эти фразы без сказуемых, эти аграмматические словосочетания «долгие о грусти», «черным о поцелуях», «любятся к облакам» не могли не бесить застигнутого врасплох читателя.
Это, конечно, предел; но и там, где Лившиц обходится без языковых экспериментов, установка на живописный опыт сохраняется. Пример — стихотворение «Тепло», разбору которого посвящена превосходная страница в «Полутораглазом стрельце». В нем всего лишь три загадочных четверостишия. «Вскрывай ореховый живот, Медлительный палач бушмена: До смерти не растает пена Твоих старушечьих забот. Из вечно-желтой стороны Еще не додано объятий — Благослови пяту дитяти, Как парус, падающий в сны. И, мирно простираясь ниц, Не знай, что за листами канув, Павлиний хвост в ночи курганов Сверлит отверстия глазниц». Комментарий: «В левом верхнем углу картины — коричневый комод с выдвинутым ящиком, в котором роется склоненная женская фигура. Правее — желтый четырехугольник распахнутой двери, ведущей в освещенную лампой комнату. В левом нижнем углу — ночное окно, за которым метет буран… Все это надо было „сдвинуть“ метафорой, гиперболой, эпитетом, не нарушив, однако, основных соотношений между элементами. Образ анекдотического армянина, красящего селедку в зеленый цвет, „чтобы не узнали“, был для меня в ту пору грозным предостережением. Как „сдвинуть“ картину, не принизив ее до уровня ребуса, не делая из нее шарады, разгадываемой по частям? — Нетрудно было представить себе комод бушменом, во вспоротом животе которого копается медлительный палач — перебирающая что-то в ящике экономка… Нетрудно было, остановив вращающийся за окном диск снежного вихря, разложить его на семь цветов радуги и превратить в павлиний хвост… Гораздо труднее было, раздвигая полюсы в противоположные стороны, увеличивая расстояние между элементами тепла и холода (желтым прямоугольником двери и черно-синим окном), не разомкнуть цепи, не уничтожить контакта. Необходимо было игру центробежных сил умерить игрою сил центростремительных: вводя, скажем, в окно образ ночного кургана с черепом, уравновешивать его в прямоугольнике двери образом колыбели с задранной кверху пяткой ребенка и таким образом удержать целое в рамках намеченной композиции. Иными словами: создавая вторую семантическую систему, я стремился во что бы то ни стало сделать ее коррелатом первой, взятой в качестве основы: Так лавировал я между Сциллой армянского анекдота и Харибдой маллармистской символики».
Маллармистская символика (от имени С. Малларме, самого изысканно-темного из французских символистов, слабым подобием которого на русской почве был разве что И. Анненский) — это искусство называть вещи иносказательно, намеками, потому что все равно-де ни одно прямое слово не может обозначить то бесконечно индивидуальное постижение вещей, которое дано поэту. Лившиц владел этой техникой, как первый ученик: он умел сказать вместо «смерть» — «асфодели» (цветы загробного царства в греческих мифах), вместо «восход луны» — «на востоке прозрачный веер лунных вер», вместо «в сумерках закатилось солнце» — «умерли гобои за серою рекой», вместо «Исаакиевский собор» — «чудо лютецийских роз» (Лютеция — латинское название Парижа, откуда приехал зодчий Монферран). Об отдельных словах, рассчитанно затрудняющих текст красивой многозначительностью, не приходится и говорить: кто не остановится вниманием на такой экзотике, как «бестиарий», «гиацинтофор» или «атанор»? Есть ли существенная разница, между этой вычурной тайнописью и прямолинейной шифровкой «армянского анекдота», можно спорить: для поэта, разумеется, есть, но для читателя — вряд ли. Ему все равно приходится разгадывать предстающую картину «по частям»: с элементами действительности отождествляются сперва наиболее прозрачные метафоры, по ним намечается структура целого, по ней восстанавливаются элементы неясные и сомнительные. Этот разгадывательский труд — форма соучастия читателя в творчестве поэта; вовлечь читателя в такое сотворчество и этим дать ему лучше почувствовать величие творца было гордой заботой почти всех поэтов начала века.
Целью Лившица было внести рассчитанный порядок в буйный хаос первозданной мощи «гилейцев». Недаром он изображает свою работу над стихотворением «Тепло» не только как постепенное нагнетание напряжения между светом и тьмой, представленными в самых причудливых образах, но и как соблюдение строжайшего равновесия между ними: никакого своеволия, никакой прихоти. Он помнил самое старинное, аристотелевское понимание искусства: искусство — это осознанное, рациональное воздействие на бессознательные, иррациональные страсти человеческой души. У своего кумира Рембо (не без влияния которого возникли «Люди в пейзаже») он восторгался именно «гениально организованным хаосом», за живописными экспериментами кубистов зорко видел классичнейшие конструкции Пуссена. Его «полутораглазый стрелец» вздымает против опустошенной культуры Запада «атавистические пласты, дилювиальные ритмы» (то есть прачеловеческие, допотопные силы), но сам он прочно сидит в седле и держит в узде эту вздыбленную стихию. Захлебывающаяся непосредственность, с которой хваталась «Гилея» за любые новооткрывшиеся выразительные средства, тешила его лишь на первых порах, а потом начинала претить. Он искал «гранд-арта», «большого искусства» в новых формах, неразрывно связанных с новым содержанием, с новым мироощущением, — а Бурлюки, упоенные бездумным ликованием («хоть день, да наш»), дружно поднимали его на смех. Творческий контакт с футуризмом кончался, Лившиц вновь оставался один. У него оказывалось больше общего языка с акмеистом Мандельштамом, чем с «гилейцами».
Твердая установка на единство формы и содержания диктовала Лившицу не только его формы, но и его темы. Он не только писал «дионисийскими» средствами, добытыми в результате бунта стихии против разума, — он сделал этот бунт основным содержанием своей поэзии. С разных сторон он возвращался к этой теме вновь и вновь на протяжении Всего своего творчества. Теперь, когда мы знаем, что толкнуло писателя к этой теме, нам легче проследить ее разработку от этапа к этапу и тем самым понять поэзию Бенедикта Лившица.
Первая его книга называлась «Флейта Марсия». Так же называлось и первое стихотворение в этой книге. Этим мифологическим заглавием сразу декларировалась тема, которой предстояло стать сквозной для всех тридцати лет творчества поэта, — тема стихии и культуры.
Был греческий миф об Аполлоне и Марсии. Аполлон, златокудрый красавец, прорицатель грядущего, — бог света, вождь муз, непобедимый в мерной игре на лире. Марсий — козлоногий и косматый сатир, дикое божество природных сил из малоазиатской Фригии, наслаждающийся экстатическими звуками флейты. Марсий самоуверенно вызвал Аполлона на состязание в музыке, был побежден и по условию отдан на произвол победителю; Аполлон жестоко наказал его за дерзость, привязав к дереву и содрав с него кожу. Для античности и классицизма это было символом торжества света, разума, порядка, культуры над темным хаосом стихийных сил, могучих, но бессмысленных и потому опасных. Аполлону поклонялись, Марсия ужасались.