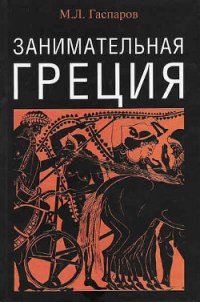Избранные статьи - Гаспаров Михаил Леонович (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Другой формой этой поэтики недоговоренности была фрагментарность. Если стихотворение держится не столько логической, сколько ассоциативной связью образов (как между собой, так и с их подтекстами в культурной традиции), то число этих образов можно произвольно сокращать — воображение читателя дополнит недостающие, а концентрация и напряженность поэтического материала станет только сильнее. Уже четверостишие «Звук, осторожный и глухой…», открывающее «Камень», выглядит фрагментом — подлежащим без сказуемого [126]. От стихотворения «Когда удар с ударами…» Мандельштам отбрасывает конец, от стихотворения «Слух чуткий парус напрягает…» — начало (то одну строфу, то две), стихотворение «Как тень внезапных облаков…» он обрывает на недоговоренном полустишии, в стихотворении «О небо, небо, ты мне будешь сниться…» вообще оставляет только одну осколочную строфу из четырех. Такая фрагментарность — прием, конечно, не классицистический, а романтический; Мандельштам к нему прибегает, чтобы сделать ощутимее единство стиля, которым одним держится такое усеченное и почти обессмысленное стихотворение.
Последние стихотворения «Камня» писались уже в начале мировой войны. Как все, Мандельштам встретил войну восторженно (пытался даже поступить на санитарную службу), как все, разочаровался через год. Для поэзии его война означала еще одно обращение к Тютчеву — на этот раз к его риторической стихотворной публицистике. Таковы его стихи к полякам, о Реймсе и Кельне, о папской энциклике в защиту мира и др.; стихотворение «В белом раю лежит богатырь…» концентрирует мотивы официального народничества почти до неправдоподобия («серьезная пародия», по выражению. С. С. Аверинцева). Союз с Антантой подкрепил в нем чаадаевские мысли о синтезе европейской и русской культур, отсюда явились «Поговорим о Риме…» и другие римские стихи. В «Камень» из этого вошло лишь немногое, а теоретическое обоснование его публицистических стихов (доклад «Несколько слов о гражданской поэзии», октябрь 1914) не сохранилось. Наиболее значительное стихотворение, порожденное войной, — это «Бессонница. Гомер…», где тема движущей любви предвещает уже новое в его манере. В 1916 г. настроения его становятся антивоенными, он пишет стихи против англо-французской интервенции в Греции («Собирались эллины войною…») и «оду миру во время войны» — «Зверинец» с его геральдической символикой, «праарийским» культурным братством и дионисийским апофеозом в конце. После этого тютчевские ноты в его стихах стушевываются: на смену войне приходит революция и разруха, и они требуют другого стиля [127].
«Революция была для него огромным событием», — свидетельствует Анна Ахматова. Она оживила в нем воспоминания об увлечениях молодости, когда он дружил с эсерами и с восторгом читал М. Карповичу брюсовских «Грядущих гуннов». Падение монархии представлялось ему исторически справедливым; потом, в статье «Кровавая мистерия 9 января» он оправдает даже гибель царя. Стихотворение лета 1917 г. «Декабрист» говорит о едином порыве России и Европы из «тенет» и о том, что называлось тогда «народная самодеятельность»: «вернее — труд и постоянство» [128]. Октябрьский переворот, напротив, вызвал у Мандельштама понятное негодование: стихотворение «Когда октябрьский нам готовил временщик…» героизирует гибнущий режим Керенского (который потом, в «Египетской марке», он обзовет «лимонадным правительством»), в «Кассандре», обращенной к Анне Ахматовой, он восклицает: «И в декабре семнадцатого года все потеряли мы, любя…» — и пророчит погибельные скифские праздники на берегах Невы [129]. Стихи зимы 1917 и лета 1918 г. насыщены редким для Мандельштама обилием подтекстов из повседневной печати: «гиперборейская чума» — это слухи о наступающей с юга эпидемии, а «чудовищный корабль на страшной высоте» — о налетах немецких аэропланов на Петроград. «Гимн», подводящий итоги первого года революции, начинался словами «Прославим, братья, сумерки свободы…» — рассветные сумерки весны 1917 г., закатные — весны 1918 г. Но о том, что «все потеряли мы», здесь уже нет разговора: воля обращена в будущее, в мыслях опять «труд и постоянство»:
В 1918 г. Мандельштам перебирается из Петрограда в Москву, пытается служить в Наркомпросе, но служба не в его характере. Современники запомнили его схватку с известным чекистом Я. Блюмкиным, когда ему удалось (с помощью Л. Рейснер) добиться у Дзержинского отмены одного расстрела. Зимой 1919 г. открывается возможность поехать на менее голодный юг; он уезжает сперва на полтора года (1919–1920: Харьков, Киев, Феодосия, Батум, Тифлис; в Крыму его арестовывала врангелевская контрразведка, в Батуме — местные военные власти), потом еще на год (1921–1922: Киев, Кавказ, Ростов, Харьков, Киев). Промежуточную зиму он проводит в Петрограде, в знаменитом общежитии Дома Искусств на Невском («поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные…»): к нему впервые приходит настоящая, а не узкокружковая известность и уважение, даже Блок записывает о нем в дневнике (22 октября 1920): «„жидочек“ прячется, виден артист». Первой поездке он посвятил потом очерки «Феодосия». По существу, именно тогда решался для него вопрос: эмигрировать или не эмигрировать. Он не стал эмигрировать: он повидал своими глазами и красную власть, и белую власть и понял, что из двух зол народ выбрал большевиков, а не белогвардейцев. О тех, кто предпочел эмиграцию, он писал в двусмысленном стихотворении «Где ночь бросает якоря…»: «Куда летите вы? Зачем От древа жизни вы отпали? Вам чужд и страшен Вифлеем, И яслей вы не увидали…» Этим же намеком кончается стихотворение «Феодосия»: «Недалеко до Смирны и Багдада, но трудно плыть, а звезды всюду те же». Отказ от эмиграции был этическим актом, подобным чаадаевскому, — свободным выбором, верностью в несчастье; об этом он сказал в проникновенном стихотворении об Исаакиевском соборе (весной кронштадтского погрома 1921 г.), прощаясь ради него с Римом и Константинополем:
Весной 1922 г. Мандельштам возвращается с юга и поселяется в Москве. С ним молодая жена, Надежда Яковлевна Хазина из Киева: она будет подругой всей его оставшейся бедственной жизни, а после его гибели героически сохранит, смертельно рискуя, его стихи. «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно» (А. Ахматова). Осенью 1922 г. в Берлине выходит маленькая книжка новых стихов «Tristia» (Мандельштам хотел назвать ее «Новый камень»), в 1923 г. она в измененном виде переиздается в Москве под заглавием «Вторая книга» (и с посвящением «Н. X.»). Почти одновременно в последний раз переиздается «Камень: первая книга стихов». После этого ему удастся только один раз собрать свои стихи в маленьком однотомнике 1928 г., и больше стихотворных книг у него не будет.
126
Poliak N. Mandelstam’s «first» poem // Slavic and East European Journal (далее SEEJ), 32 (1988), 98–108.
127
Broyde S. Mandelstam and his age: A commentary on the themes of war and revolution in his poetry, 1913–1923. Cambridge (Mass.), 1975; Nilsson N. A. Mandel-stain and the revolution // Art, society, revolution: Russia 1917–1921 Stockholm. 1979, 165–178.
128
Rothe — H. Mandelstam, «Der Dekabrist» // Archiv f. d. Studium dor neuen Sprachen und Literaturen. 212 (1975), 95–115.
129
Nilsson N. A. «To Cassandra»: a poem by O. Mandelstam from December 1917 // Poetica Slavica, Ottawa, 1981, 105–113.