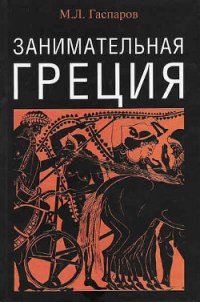Избранные статьи - Гаспаров Михаил Леонович (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Замечательный образец такой поэзии «блаженного, бессмысленного слова» — стихотворение «Соломинка», написанное еще в 1916 г. [140] Оно обращено к красавице Саломее Андрониковой; из ее имени Мандельштам сделал ласкательное прозвище «Соломинка», и чтобы уничтожить в этом слове остатки прозаичности («солома», «пить через соломинку»), написал это стихотворение. Слово здесь десемантизируется повторением и нанизыванием созвучных слов: «соломка», «сломалась», «смерть», «смертный», «спишь», «спальня», «спокойный», «бессонный», «омут», «комната» и, наконец, «слова». Имя «Саломея» он раздваивает на «Соломинку» и «Лигейю» (героиня Эдгара По, умирающая и воскресающая в чужом теле), из этого намечается смутный сюжет: «Саломея» жалуется на смертную бессонницу, «Соломинка» действительно умирает, а «Лигейя» остается жить в поэте. Настойчивые повторения представлены как подыскивание слов: все текуче, подбираются не прилагательные к существительным, а существительные к прилагательным (струится голубой лед — струится голубая кровь), из мысли «жалостью убиты все слова [к Соломинке]» рождается мысль «убита жалостью [сама] Соломинка». После того, как слова найдены («Я научился вам, блаженные слова»), начинается вторая часть стихотворения: интонация становится твердой, строки и полустрочия перестраиваются в новом, зеркальном порядке, но логика их следования от этого теряется еще более. Смысл настолько размыт, что первая строчка дважды печаталась с опечаткой, и это не замечалось (вместо «Когда, Соломинка, не спишь…» — «Когда… ты спишь», как будто все дальнейшее — во сне). Для звуков Мандельштам не щадит даже очень дорогое и глубокое: «соломинка» «в круглом омуте» зеркала и кровати напоминает «тростинку» («стебель») «в омуте» трех ранних стихотворений Мандельштама, одно из которых («Неумолимые слова…») изображало не что иное, как Христа на кресте.
Однако не случайно, что этот самый яркий пример второй, верленовской поэтики Мандельштама, «музыки без слов» («звучащих слепков формы»), относится к уже отступившему в прошлое 1916 году. Пока Мандельштам подводил итоги и намечал программу в статьях 1921–1922 гг., собственная его практика стала иной. Стихи 1922 г. очень непохожи на стихи 1920 г. Из четырех пунктов программы «Слова и культуры» и смежных статей — культура как советник государства, эллинистическое обживание мира, слово-Психея и классицизм — первый и последний раньше всего показали свою несостоятельность, а два других приобрели существенно иной вид.
Если первые свои три года большевистское государство действительно держалось на грани гибели, то к 1922 г. оно уже утвердилось прочно и не боялось того, что Мандельштам называл пожирающим временем. Соответственно и отношение его к культуре осталось лишь «терпимостью», и терпимостью в очень строгих рамках: это было продемонстрировано высылкой интеллигентской элиты в 1922 г. То, что для государства было терпимостью, для культуры было претерпеванием. Еще в 1913 г., варьируя образ камня, Мандельштам написал строки, которые могли теперь казаться пророческими: «Россия, ты, на камне и крови, участвовать в твоей железной каре хоть тяжестью меня благослови!» Участвовать в каре — разумеется, только в качестве жертвы: образ священной соли, очищающей жертву перед закланием, именно в это время, как мы увидим, появляется у Мандельштама с навязчивой настойчивостью. Историческая необходимость этой кары, этой революции оставалась для него вне сомнений. В 1924 г. он ходил прощаться к гробу Ленина, которого называл когда-то «октябрьский временщик». Свое отношение к пролетариату он называл «присяга чудная четвертому сословью и клятвы крупные до слез» [141] (и точно датировал их: «двадцатый вспоминая год»). Н. Я. Мандельштам недовольно вспоминала, что эта присяга обязывала его к примирению с советской действительностью — «но без смертной казни». (Кровопролития он не принимал ни с одной стороны: когда Л. Каннегиссер, эсер и поэт, застрелил Урицкого, Мандельштам сказал: «Кто поставил его судьей?»). Отличать высокий идеал от безобразных форм его воплощения он умел: учителем его был Андре Шенье, который одою прославил присягу третьему сословию и ямбами бичевал его вождей; Шенье привлекал его внимание еще с 1914 г. совмещением гражданственности и ностальгии по эллинскому золотому веку. Другой формулировкой его отношения к новому миру была строка: «Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому», несмотря на «жестоких звезд соленые приказы» (кантовский императив или современная эмблема?) — в противоположность загадочным заговорщикам, стилизованным под декабристов с пуншем и араком, которые еще не знают, что «вернее — труд и постоянство». Он по-прежнему верит, что «опара» новой жизни может взойти лишь на закваске старой культуры, но пишет об этом в стихах гораздо менее торжественно, чем в статьях: «И свое находит место черствый пасынок веков — усыхающий довесок прежде вынутых хлебов». Он не гнушается откликами в стихах на современность и даже злободневность. Еще в 1920 г. (в Феодосии, при Врангеле) он писал для публичного исполнения «Актера и рабочего»; теперь он перелагает в стихи свою статью «Пшеница человеческая» — то обличая «власть немногих» в ответ на угрозу авиационной войны («Опять войны разноголосица…»), то изображая спасение Европы для вселенского интернационала («С розовой пеной усталости у мягких губ…»). Но сложность стиля его такова, что вряд ли кто в широкой публике понял первое стихотворение, и вряд ли кто из любителей увидел во втором что-то большее, чем аллегорию, списанную с картины Серова.
Что касается классицизма, то он оказался недостаточно глубоким слоем культуры, чтобы, опираясь на него, цивилизовать «жестоковыйный век». В «О природе слова» Мандельштаму думалось, что страницы культуры раскрылись современному читателю на Гомере, Расине, Гофмане и Шенье. Оказалось, что они раскрылись на Гомере и народном эпосе — таком, как «Гоготур и Апшина» Важа Пшавелы или как «Песнь о Роланде» и другие старофранцузские героические поэмы. «Гоготура» Мандельштам переводил в 1921 г. по заказу Табидзе и Яшвили, отрывки из французского эпоса он безуспешно предлагал в печать в 1922 г.; и в том и в другом у него усилены черты архаической простоты и неловкой мощи. Недаром Мандельштам заявлял, что не литература, а живой язык организует общество. В поэзии важна не «тема», а «прием», потому что тема — от литературы, а прием от языка («Буря и натиск»). В критических статьях 1922–1923 гг., говоря об «изобретении» и «воспоминании» в поэзии, он отдает предпочтение «воспоминанию», но героями его считает не неоклассиков, а Хлебникова и Пастернака. Мандельштам отстраняется даже от ближайших ему лиц: стихи Ахматовой — это «паркетное столпничество», а стихи Цветаевой — «богородичное рукоделие». Молодому поэту он пишет: «Ощущенье времени меняется. Акмеизм 1923 г. — не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь „совестью“ поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия», рациональное мастерство заменяется иррациональной совестью. На иррациональности Мандельштам настаивает: только «естественная иррациональная поэзия» дает накопление и приращение энергии в культуре («Литературная Москва»).
Все иррациональнее он становится даже в собственной работе над стихом: не подчиняет слово, а подчиняется слову. Начиная стихи о сеновале и комариной песенке, связующей человека с древним хаосом (тютчевский образ), он как будто сам не знает, хочет он соединить или разъединить «связь крови» со «звоном трав», примеривает и то и другое и получает два стихотворения с противоположно направленными концовками («Я не знаю, с каких пор…» и «Я по лесенке приставной…») [142]. Такая работа на ощупь у поэтов не редкость; редкость то, что оба стихотворения он печатает подряд, не смущаясь их смысловой разнонаправленностью. Впоследствии такие «двойчатки» и «тройчатки» станут у Мандельштама обычными.
140
Semmler-Vakareliyska С. V. Mandelstam’s «Solominka» // SEEJ 29 (1985), 405–421.
141
Ronen О. Chetvertoe soslovie: vierter Stand or fourth estate? // SIHier 5/6 (1981), 319–323.
142
Фарыно E. «Сеновал» Мандельштама // Text, Symbol, Weltmodell. Munchen, 1984, 147–158.