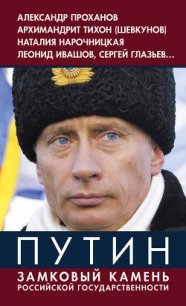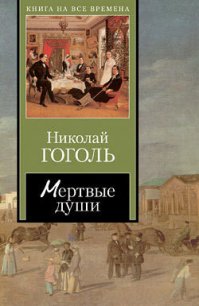Русская ментальность в языке и тексте - Колесов Владимир Викторович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
Возможны разные повороты души. Либо чрезмерное чувство долга — «доминирование долга», — что иссушает душу и вводит ее в озлобление против всех и вся, либо явное преувеличение собственных прав — и тогда совсем плохо, потому что нарушается равновесие справедливости. Крайности вдвойне опасны. Часто тяга к справедливости незаметно приводит к жертвам и созданию противоречий — и это тоже типично русская черта характера, полагает Иван Солоневич. Неплохо было бы прислушаться: «Сквозь все достоинства и недостатки русского народа сплошной, непрерывною красной нитью проходит тяга к справедливости. Не к какой-то абстрактной, потусторонней справедливости, а к простой, земной, человеческой, государственной справедливости. Как и все свойства, так и эта тяга в какие-то отдельные моменты народной жизни дает явно невыгодные результаты. Вызывает жертвы, с точки зрения данного момента ненужные. Создает коллизии между чувством справедливости и требованиями целесообразности. Налагает на государство бремена неудобоносимые и требует морального оправдания часто внеморальной государственной необходимости. Стесняет всякое политическое маневрирование и не один раз втягивала Россию в войны, для которых очень трудно подыскать соответствующие экономические оправдания.
Эта тяга к справедливости в житейской практике не всегда удобна. Пытаться исправлять ее — дело совершенно безнадежное. Может быть, не стоит и оправдывать ее. Эта типично русская черта характера проходит сквозь всю историю России, окрашивает собою все проявления русского национального инстинкта и создает у иностранцев, а также у тех русских, которым думать нечем, представление о какой-то врожденной мягкотелости русского народа...
Само собою разумеется, что чувство справедливости врождено всякому народу, всему человечеству, но у нас оно — обостренное. Наше обостренное чувство справедливости сыграло и здесь свою роль: по поводу всякого нашего безобразия мы начинаем орать первыми. До чужих безобразий нам-де не было никакого дела» [Солоневич 1997: 64—65].
Американец тоже носится с идеей справедливости, но понимает ее по- иному. Для него справедливость не «правда-матушка», а просто право, которое должно быть ему обеспечено согласно закону. Это не проблема личной ответственности в духовной атмосфере справедливости согласно совести, а характер долга, данного в воле. Когда и где на святой Руси русский человек обладал таким правом? Вот и ищет он тропки, ведущей к личной его правде...
Тем более, что полной — идеально абстрактной — справедливости нет, и русская сказка, нравственная сила которой как раз в утверждении высшей степени справедливости, не признаёт равенства, отрицает братство (по суждению Андрея Синявского), да и свободу всегда отдаст за самую малую волю. Не в том ведь и справедливость, не в равенстве и не в братстве, хотя и они в цене.
Но поскольку справедливость — это чувство, даже аффект, то и действует она как аффект. Когда Илья Муромец разнес весь Киев за то, что Владимир-князь не пригласил его на пир (что было бы — пригласить его после победы — справедливо), то «ясно виден весь русский характер: несправедливость была, но реакция на нее совершенно неожиданна, несообразна и стихийна» [Вышеславцев 1995: 116]. Конечно, в каждом отдельном случае сумму справедливости не установишь, нечего и пытаться, но подобное нарушение справедливости в мелком даже и порождает неприятие мира в целом, мира, в котором такая несправедливость существует. Ведь виновато целое, вещь, а не ее предикаты и признаки и тем более — не идея справедливости. Отсюда и пресловутый «русский нигилизм» — тоже крайность в неприятии обманного мира. Нельзя обманывать — словом. Можно творить несправедливость — делом, можно сокрушить и мыслью, но обманывать словом — нельзя. Если нас обмануть, замечает психолог-эксперт, мы, верно, не станем рыдать и жаловаться, но не забудем этого, и уж веры такому обманщику больше нет. Никогда.
Справедливость, как и всё в этом мире, трехмерна. Нагорная проповедь указала путь, которым — в полном смирении — человек в своих действиях восходит в степенях справедливости, сам постоянно творя справедливость [Касьянова 1994: 207—210].
Нищие духом — первая тропка. Человек признает свое рабство у природы и мира, бросает все ценности этого мира и признанием истинной своей нищеты делает возможным движение вверх, хотя еще только и на телесном уровне, вещно.
Но душа растет в сопротивлении миру, человек постигает смысл жизни — понимает ее, становясь личностью. Теперь он может соучаствовать в творении справедливости, потому что сам по себе свободен, но не перед Богом, у которого он еще как бы наемник, получая заработанное свое.
Высшая сфера принципа справедливости — всё свое отдаю и ничего не требую. Он избран, а избранный не пользуется плодами справедливости, он творит справедливость, он свободен теперь и внутренне, он Творец. «Справедливость — доблесть избранных натур, правдивость — долг каждого порядочного человека» — учил Василий Ключевский. Как просто, и как легко выполнимо.
Таковы грани по справедливости праведного возрастания личности:
- нищий: раб (у господина) — человек телесный;
- наемник: слуга (по степеням) — личность в душе;
- праведник: свободный (абсолютно) — творец по духу.
Перед нами — восхождение души «от чувства», через непосредственное ощущение — утраты мира, прощания с ним; восхождение не к личности, как, по-видимому, полагает Ксения Касьянова, а к лику — к предельному идеалу. Именно такое восхождение по «лествице чувств», постепенно отчуждаемых от мирского человека, описывают средневековые монашеские руководства типа «Лествицы» Иоанна Синайского или «Пандект» Никона Черногорца, переведенных на Руси в XII в. Восхождение души по степеням славы, ее освобождение от мирского не может быть простой утратой, а только потерей внешнего. Одновременно это приобретение праведным — справедливости.
Важная ступень в движении — вторая, средняя. Она разрушает исходное распределение «раб — господин», столь трагическое в русской истории. Нравственно-психологический его недостаток определяется именно таким — эквиполентным — противопоставлением, что и порождает «устойчивые, глубоко вкорененные в психологию народных масс навыки рабского мироотношения: отсутствие комплекса гражданских чувств и идей, унизительная покорность, неуважение к личности и, наконец, склонность превращаться в деспота, если игра случая вознесла раба выше привычной для него ступени» [Андреев 1991: 163]. Последнее воспроизводится постоянно, именно потому, что соотношение «раб — господин» воспринимается как равноценное по оппозитам, т. е. эквиполентное; достаточно какой-то случайности перевернуть отношение — и вот уже ты господин, а кто-то твой раб («я начальник, ты дурак...»). Человек телесный преобладает в типе.
Но русская мысль пытается переломить такой тип. Только безоглядному оптимисту Бердяеву казалось, будто «русский человек душевен — задача в том, чтобы стать духовным»; другие видели его тяготение к вещизму телесности, старались предостеречь. В XIX в. тот же путь духовного обновления Владимир Соловьев и Петр Новгородцев описывали как переживание любви в постоянном истончении чувств — вплоть до исчезающего из сознания мира — до экстаза [Новгородцев 1995: 407—423], вот таким следованием:
1) любовь есть чудо, которое создается воспитанием чувства добра, страданием и молитвой — все вместе ведет к соборности, к цельности. Всеединству со взаимной ответственностью;
2) любовь есть спасение и подвиг веры, молитвы, любви;
3) Дух свят ведет — отсюда известная пассивность, созерцательность православного сознания, для которых ни свобода вне, ни авторитет сверху уже не нужны.