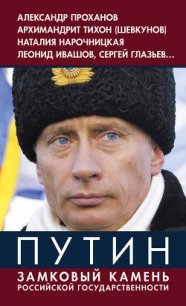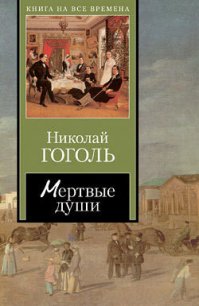Русская ментальность в языке и тексте - Колесов Владимир Викторович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
Заметно развитие концепта душа: для Даля это общее «внутреннее чувство», отличное от чувств внешних, для Овсянико-Куликовского это «сосредоточенность» чувства, воли и разума в единой их сути, для БАС — «средоточие», но только «чувств, настроений, переживаний» внутреннего (психического) мира человека, а для Ю. С. Степанова это уже «сущность» духовности вообще. Метонимические переходы смысла идут от «вещи» к «идее», но происходят на основе общего содержания концепта: душа есть единящая духовные качества личности сила, та самая, которая в древнерусских текстах предстает собирательно как чутье. В академическом «Словаре русских народных говоров» душа представлена в образе заветно нутряной ценности, которою никак невозможно поделиться, но которую следует щедро отдавать другим — тогда она растет. В народных представлениях о духе он совпадает с душою полностью, вот только устойчивости в духе меньше, к тому же он изменчив и постоянно преобразуется в формах. Совокупность значений слова душа, особенно в их исторической изменчивости, показывает, что в осмыслении концепта, стоящего за этим словом, всегда присутствуют общие ценностные идеи верха, нутра, света [Фразеология 1999], т. е. это абсолютная в своей неизменности духовная ценность.
Но сердце у славян уже издавна — носитель чувств и эмоций. Это главный орган, ответственный за все человеческие чувства (в отличие от других народов, у которых ту же роль играют печень или почки). Сердце и душа — синонимы, их связывает любовь, отсюда всеми признаваемая «нефизиологичность русского сердца» [Фархутдинова 2000: 101], несмотря на то, что в современных толковых словарях именно такое значение слова сердце приводится первым. Противопоставление сердце — голова как выражение оппозиции душа — дух идет с древности, а Григорий Сковорода положил его в основу своего философствования.
Последовательность отчуждений собирательного представления о жизненной энергии человека воссоздается легко, и для всех европейцев, пожалуй, в одинаковом виде: сердце > душа > дух >...
Что именно приходит потом (а для нас — сейчас), много лет назад проницательно описал М. И. Стеблин-Каменский. В его книге «Миф» в числе непропущенных к печати была такая страница: «Поскольку в языке, как и в мысли, есть только общее, тогда как чувство всегда индивидуально, осознание ценности индивидуального во внутреннем мире, т. е. ценности чувства, неизбежно приводит к осознанию невозможности выразить его средствами языка. Называя свое чувство общепринятым его обозначением, например, говоря „я люблю“, человек приравнивает свое чувство чувствам других людей, называемым тем же самым словом, и тем самым трактует себя как машину серийного производства, а свое чувство — как деталь такой машины. Таким образом, развитие самосознания заставляет человека раскрыть в себе робота. Не случайно уже в произведениях романтиков встречается мотив человека-куклы, человека-марионетки, человека-автомата. То, что человек оказывался, таким образом, совсем не тем, чем ему положено быть, трактовалось романтиками как трагическое противоречие, и так называемая «романтическая ирония» представлялась преодолением подобного рода трагических противоречий. Стремление обнаружить робота в человеке получило дальнейшее развитие уже в наше время в науке (кибернетика, теория информации, математическая лингвистика, генеративная грамматика и т. п.). Однако то, что в человеке можно раскрыть робота, в наше время уже не кажется трагическим противоречием, и это, вероятно, результат ассимилирующего влияния технического прогресса на сознание современного человека: машина ассимилирует человека.
Развитие самосознания, всё большая субъективация личности, т. е. всё большее включение в сферу личности того, что раньше было чем-то внешним по отношению к ней и за что несла ответственность не сама личность, а какая-то внешняя сила — Бог, судьба, несчастье и т. п., — были предпосылками и того, что стало самой характерной чертой современного человека, а именно — комплекса неполноценности. Вместе с тем развитие комплекса неполноценности было обусловлено, конечно, и усилившейся потребностью личности в самоутверждении, в частности — в интеллектуальной области. Но самый легкий, самый простой и самый естественный путь к удовлетворению потребности в самоутверждении в данной области — это, очевидно, следование тому, что всего больше противостоит традиции, т. е. следование последней моде в образе мыслей, взглядах и т. д. В конечном счете (уже в нашем веке) следование последней моде становится поветрием и в науке. Таким образом, усилившаяся потребность в самоутверждении обуславливает и свою противоположность — господство моды, т. е. стадность, даже в науке» (выделено мною. — В. К.) [Стеблин-Каменский 1976: 94].
Процесс становления личности происходит до сих пор, и одно из проявлений этого — вытеснение концепта душа концептом сознание, простым метонимическим переносом смысла. У Даля душа еще совесть, в толковых словарях чуть позже душа — сознание, а теперь душе и вовсе не осталось места, вместо нее словарно фиксируется только сознание. Однако душа — представление объективное, сознание — результат его субъективации. Так что «общая тенденция развития личности... не есть развитие личности каждого отдельного человека» [Там же], и сейчас мы можем закончить намеченный ряд превращений: ...сознание.
Чем «сознательней» человек, тем он беспомощней перед природой (натурой), и чем дольше хранит он в сердце своем свою душу как духовный свой капитал — тем вернее он человек земли, а не идея личности.
И если хорошенько подумать, в этом что-то есть... Что-то важное. А если сравнить содержательное наполнение концептов «душа» и «дух» в различных языках... станет совершенно ясно, что русская ментальность до края еще не дошла. Она отличает еще пока! — совесть от сознания.
Язычник — человек естественный, органический, природный. Человек Природы, он и входит в природу как ее часть.
Основное его чувство, которое становится почти религиозным, — страх, который в бореньях с судьбой и у-часть-ю может быть одолено лишь гневом или смехом. Вот три слова, которые даже в звучании, фонетически, в славянских языках отличались от других слов, им родственных или близких по значению. До такой степени являются они древними в своем сакральном смысле. Сравните это с теми выдумками зарубежных дам, которые русской ментальности на правах ключевых приписывают совершенно иные концепты: душа—судьба—тоска. Ничего подобного такому — христианскому — пониманию жизни у язычника нет. Древние славяне не верили в судьбу, не признавали наличие индивидуальной души, а тосковать им просто не было времени.
Гнев и смех очищают от скверны страха — в действии или в мысли. Если гневом и смехом страх не убит и развивается в ужас, он рождает темные чувства: тоску или озлобление.
Западноевропейские философы разграничили страх на боязнь (конкретного боя-битья) и на тоску — иррационально-неопределенное предчувствие страха. Ссылаясь на предсмертное стихотворение Некрасова «вечные спутники русской души — ненависть, страх...», Ю. С. Степанов считает [Степанов 1997: 670], что животное чувство страха присуще русскому человеку с пелен и до смерти. Но это не страх как тоска и ужас (ужасная тоска), а боязнь — чувство, воспитанное веками состояние неуверенности. Также Г. Л. Тульчинский с особым чувством отмечает обилие русских слов с общим значением ‘бить’. Можно добавить: и само слово бить разошлось в значениях и производных словах, которым несть числа. Как писал еще один культуролог, Петр Бицилли, от каждого существительного со значением ‘битья’ можно образовать глаголы: отстаканить, наегорить спину, припонтийствовать и прочие (и это только устаревшие) — «результат повального битья». Такова уж история у русского человека.